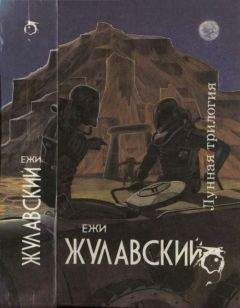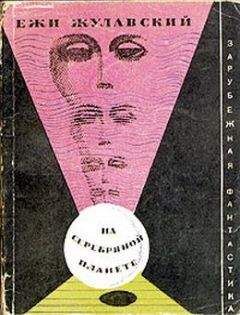Ежи Жулавский - Победитель. Лунная трилогия
— Ты получаешь все только тогда, когда ничего не желаешь. Нужно стать бесстрастным, как пространство, беззаботным, как свет, знающим, а не исследующим, как Бог!
Мысли Яцека текли куда-то в неопределенную и размытую даль.
Знающим, а не исследующим!
Творцом собственной истины, которая одновременно является истиной пространства, замыкающегося в человеке…
Вместо поиска чужих истин, которые ничем не являются, только пустотой, видимостью!..
А собственная правда — это вера!
Любая вера, но вера творческая, сильная, сформировавшаяся в душе и бесспорная — и именно поэтому являющаяся непоколебимой истиной!
Значит, знать, а не исследовать!
Творить, а не искать.
Мыслить, а не сомневаться.
Где путь к этому чуду?
Ньянатилока однажды сказал: «Нужно научиться быть одиноким среди любой толпы, а вы даже в глухой чаще одинокими быть не умеете».
Он сказал это на берегу Нила, когда от развалин храма Изиды возвращалась Аза…
— Ваше Превосходительство…
Яцек вздрогнул и поднялся. В дверях стоял неподвижный лакей.
— Что случилось?
— Мы беспокоились, что Ваше Превосходительство не спустились на ночь в свою спальню…
Яцек неторопливо отмахнулся.
— Что нового?
— Госпожа Аза…
— Что? Приехала?
— Да. Специальным поездом сегодня утром. Мы хотели разбудить Ваше Превосходительство согласно поручению, но спальня была пуста, а сюда мы не осмелились зайти.
— Где сейчас госпожа Аза?
— По вашему распоряжению несколько дней назад ей приготовлены комнаты. Она приказала передать, что через час будет завтракать и надеется встретиться с Вашим Превосходительством…
После ухода лакея Яцек повернулся к Ньянатилоке. Он пристально смотрел на его лицо, как будто хотел понять, какое на него произвело впечатление это известие о прибытии в гости знаменитой певицы, но его лицо было спокойным, безмятежным и, как обычно, непроницаемым. Даже обычная улыбка не сходила с его губ, в глазах же не было ни возмущения, ни грусти, ни даже снисхождения…
— Ты спустишься сейчас вниз, брат? — спросил он безразличным на вид голосом.
Тем временем Аза уже ждала в столовой, расположившись свободно, как в собственном доме. Она сбросила дорожную одежду и, одетая в легкое утреннее платье с ароматной сигаретой в губах, сидела в глубоком, кожаном кресле. Перед ней на столе, накрытом старинной узорчатой льняной скатертью, сверкал серебряный чайный сервиз и тяжелые хрустальные вазы с разными фруктами и сластями. Она отодвинула чашку с недопитым китайским чаем и, откинув голову на спинку кресла, смотрела полузакрытыми глазами на голубой дымок египетской сигареты, который медленно поднимался к резному потолку. Она положила одну ногу на другую; среди волн светлого шелка виднелись две стройные лодыжки в черных блестящих чулках и маленькие стопы, обутые в золотые туфельки.
Со времени посещения Лахеца и его неожиданной смерти Аза окончательно покинула свою прежнюю квартиру, в которой и так, странствуя по миру, редко бывала. Все это произвело на нее странное впечатление. На ее глазах неоднократно гибли люди — и у ее дверей, и вдалеке — убежав от нее на край света — гибли тихо, не произнося ни одного слова, ни одной жалобы, ни одного упрека, или сообщая ей в письмах день и час своей смерти, обвиняя ее или неискренне благодаря за «мучительное счастье», которое она им дала — и она всегда проходила мимо всех этих событий, как мимо потерянной шпильки или сломанной впопыхах корсетной планки…
О Лахеце же она не могла спокойно думать. Каждый раз, когда она выходила из дома, ей всегда казалось, что видит у выхода на улицу его скрюченный труп с мертвенно-белым, смертной мукой искаженным лицом, который неизвестно зачем туда принесли…
Она вздрогнула при одном воспоминании об этом. У нее не было сомнений: он умер ради нее и из-за нее.
Но мысль ее взбунтовалась против этого неясного упрека. Ведь она не сделала ему ничего плохого? Чего он от нее хотел? Что с того, что она своими поцелуями довела его до безумия, а в последнюю минуту, когда он осмелился потянуться к ней, прогнала, как собаку? Неужели по этой причине надо лишать себя жизни? Или еще хуже: отважиться на смерть добровольную и заметную?
В ее памяти мелькнули его глаза, в первый момент вспыхнувшие удивлением и страхом, а потом такие пронзительно грустные и как бы погасшие…
Он лежал, облокотившись руками на ее колени, и тянулся к ее лицу голодными губами — такими прекрасными в этот момент. Она приказала ему богохульствовать. Велела проклинать свое искусство и то возрождение через действие, которым он гордился; он должен был вслух отречься от всего, что осмелился ей до этого сказать — и четко повторить, что он ничто по сравнению с ней, и все не идет ни в какое сравнение с единственным ее поцелуем…
Ха! Ей даже не пришлось отталкивать его, когда в высшей степени любовного помешательства он осмелился обнять ее руками; она ударила его только взглядом и ледяным голосом, сказавшим: «Какую ценность вы можете представлять для меня? Ничтожный, низкий, слабый, как и все остальные, и такой же хвастливый…» А он сказал, уходя: «Не потому, что не получил тебя, наоборот, потому что губы твои поцеловал и уже перестал верить в себя…»
Смешная история!
Она бросила догоревшую сигарету и ноги в золотых туфельках вытянула на пушистом ковре. Она была зла на себя, за то что все еще думает о такой, по ее убеждению, незначительной, не стоящей памяти ерунде, и таким образом пробуждает спящую где-то в глубине ее души слабость, в то время когда должна быть сильной и безжалостной, как лесная рысь, спрятавшаяся в ветках дерева и царящая в целом лесу.
Она обернулась на звук отворяемых дверей. На пороге появился Яцек, слегка побледневший, и, низко поклонившись, извинился перед ней за опоздание. Не вставая с кресла, она протянула ему левую руку, ухоженную, с длинными розовыми ногтями. Яцек, нагнувшись, коснулся ее слегка дрожащими, горячими губами — и в эту минуту, взглянув поверх его головы, Аза увидела в дверях удивительную фигуру полунагого буддиста. Она вздрогнула от холодного, необъяснимого страха, и глаза ее широко раскрылись… Это лицо показалось ей знакомым, хорошо, хорошо знакомым…
Она медленно встала — и в то время, когда Яцек, удивленный ее поведением, немного отступил в сторону, напрягла зрение и память…
Какое-то смутное воспоминание того времени, когда она была еще девочкой: огромный зал, заполненный людьми, арена, освещенная ярким светом — а на ней та же самая фигура, те же самые руки с длинными, тонкими пальцами, которые теперь она видит на дверной ручке — и лицо, обрамленное длинными черными волосами…