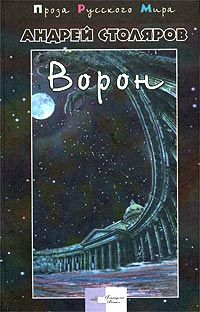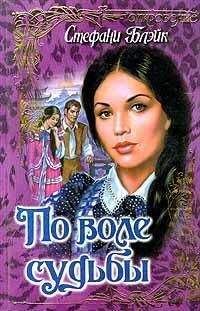Андрей Столяров - Сад и канал
Он приветственно помахал мне вилкой с наколотым куском колбасы и, прожевывая, дико таращась, промычал из горла что-то нечленораздельное. Щеки его чернели небритостью, был заклеен исцарапанный лоб, и рубашка была изжеванная, по-моему, сшитая из занавески. А на хлебнице рядом с горбушкои батона лежал пистолет — вместо масла в масленке желтели две запасные обоймы.
— Ты с ума сошел, — растерянно сказал я. — Здесь же смотрят. Тебе тут нельзя показываться…
Сделав страшное усилие, Куриц проглотил ту массу, которая скопилась у него во рту, и, причмокнув от наслаждения, понюхал колбасную прелость.
— Не волнуйся, — все так же нечленораздельно ответил он. — Слежки не было, я тысячу раз проверялся. А в твою парадную я вообще не заходил. Я прошел чердаками с Садовой и спустился по лестнице.
И он впился зубами в несчастный кусок колбасы.
В общем, здесь все было предельно ясно. Куриц быстро подмел всю оставшуюся вермишель и, дрожа, словно хищник, накинулся на чай с сухарями. Сахара он себе положил ложек пять или шесть. И прихлебывал — щурясь и цыкая от удовольствия. Я пока очень путано рассказывал ему — то, что знал. Про налет, и про явки, и про Лелю Морошину. Про записку со словом «предатель», которую я получил. Но он слушал меня до обидного невнимательно. Лишь единожды, оторвавшись от кружки, невнятно переспросил:
— Значит, обе квартиры? И на Сенной, и в Конюшенном?.. Ну — Морошина! Этого ей не простят… А ведь я собирался как раз на Конюшенный переулок…
И опять захрустел сухарями, точно хомяк. Как болезнь, ощущалась в нем застарелая напряженность. Он, казалось, все время был собран и был начеку. И прислушивался и поглядывал в сторону пистолета. Вероятно, готовый в любую секунду — схватить его и стрелять. Говорил он короткими, рваными, злыми, горячими фразами. Будто семечки, выплевывая их изо рта. Разобраться, в чем дело, мне было довольно трудно. Или я от контузии пока еще плохо соображал. В дополнение ко всему, он непрерывно ругался — через каждое слово вставляя: Трам-тарарам!.. — Я давно уже не слышал такого отборного мата. Интересно, что раньше Куриц не ругался — совсем. Тем не менее, что-то начало слегка проясняться. А когда прояснилось, то прямо-таки ошеломило меня:
— Погоди! Значит, в Карантин тебя сдали свои же?!.. Ты — из группы, которая бежала на днях?!..
— Ну их, трам-тарарам!.. — сказал Леня Куриц. — Страх, подполье, террор, самомнение, власть… Деньги, женщины, трам-тарарам, перегрызлись, как падлы!.. Слышал, может быть, про такую контору: «Гермес»?.. — Он допил третью чашку и поставил ее — со стуком. — В общем, если не против, то я поживу у тебя пару дней… Извини, но мне просто необходимо где-нибудь отсидеться… В крайнем случае, как-нибудь перекантуюсь на чердаке… Правда, именно чердаки сейчас усиленно проверяют… — И пощелкал немытыми длинными пальцами.
— Давай, давай!..
Я сходил и принес ему ксерокс исторического документа. Я не знаю, зачем он был нужен, но Куриц — вцепился в него. Щупал, вчитывался и, кажется, даже обнюхивал. Повернулся к окну и посмотрел бумагу на свет. Что он думал там обнаружить — ведь это был ксерокс?
— Так-так-так… — суетясь, приговаривал он. — Это — ясно, и это — мне тоже понятно… «Зверь», «проклятие», в общем, пока — мишура… Между прочим, тебе было б лучше — убраться из города… Чтоб — не быть на виду, ты же — «предатель» для них… Или тихо сменить местожительство, по крайней мере… Так-так-так, значит, «Угорь» и, значит, «со скудних времен»… «Лупоглазех, пузатех, во пятнох, сы задней плавницей»… «Пробудиша, и ркоша, и мнози развяша его»… «И стонаша, и свет загорашася нечеловеций»… — Он пристукнул по тексту. — А где же вторая часть? — И уставился на меня, словно следователь на обвиняемого.
— Какая вторая часть? — удивился я. — Я принес тебе то, что мне выдали по заказу…
— Вот же, вот же! — Куриц потыкал в подколотый бланк. — Вот! Тебе здесь отметили, что это — первая половина!.. А вторая находится в ЦГАОР и нужен другой заказ… Что же ты, до сих пор не умеешь читать библиотечные шифры?.. — Он был искренне, до глубины души возмущен. — Чем ты, трам-тарарам, занимался в своем институте?!..
В это время, как бешеный, зазвонил телефон. Разрываясь от нетерпения. Я поперхнулся. Потому что телефон не работал уже несколько дней. И сейчас же возникла встревоженная жена из комнаты.
Я махнул ей рукой, чтоб хотя бы не лезла она. И прикрыв дверь на кухню, сорвал раскаленную трубку.
— Николай Александрович? — бодро сказал генерал Сечко. — Я приветствую вас, Николай Александрович… Говорят, вы сегодня попали под артобстрел?.. Все в порядке? Надеюсь, серьезно не пострадали?.. Николай Александрович, а у меня к вам — опять вопрос… Дело в том, что у вас находится ваш приятель… Вы, наверное, с ним беседуете, пьете чай?.. Ради бога, пожалуйста, не торопитесь… Но когда вы закончите все ваши дела — пусть он выйдет — спокойно, один — на улицу… И, конечно, чтоб не было никакой маяты… Я прошу вас, скажите ему: не надо… Вы — в квартире, там все-таки — двое детей…
Вслед за этим в наушнике наступило молчание. Не было слышно даже обычных телефонных гудков. Мой аппарат, по-видимому, вновь отключили.
Я вернулся на кухню и очень медленно сел. Я не знал, как об этом сказать Лене Курицу. Но, наверное, у меня все было написано на лице — так как Куриц устало и понимающе ухмыльнулся.
— Ну? — сказал он. — По-видимому, это за мной? Я, признаться, когда позвонили, то так и подумал. — Он лениво поднялся и сунул в карман пистолет. — Вероятно, они попросили, чтоб я покинул квартиру? Да, как водится, наша госбезопасность на высоте… Не расстраивайся чересчур, это следовало предвидеть…
— Я попробую что-нибудь сделать, — неуверенно сказал я. — Я, в конце концов, остаюсь еще членом Комиссии…
Но в ответ Леня Куриц — лишь подмигнул.
— Не валяй дурака! Что ты можешь? И кто тебя будет слушать?.. — Звякнув толстой цепочкой, он отпер замок. И в дверях, чуть запнувшись, по-видимому, на прощание обернулся. — Вообще, у меня такое предчувствие, что мы увидимся в ближайшие дни. Правда, трудно сказать: хорошо это или плохо… — И он снова — в какой-то решимости — подмигнул.
И вошедший в пазы язычок замка оглушительно щелкнул…
Первый «чемодан» ударил на углу Садовой и улицы Мясникова, он, по-видимому, угодил в стык, под выступы тротуара: вспучился громадный асфальтово-земляной разрыв, будто жесткой метелкой выскребло остекление противоположного дома, ярко-красный обтертый «жигуль», притулившийся неподалеку от перекрестка, перевернулся, из облепленного грязью днища его заструился кудрявый дым, и пустая лакированная коробка вдруг вспыхнула бензиновым пламенем.