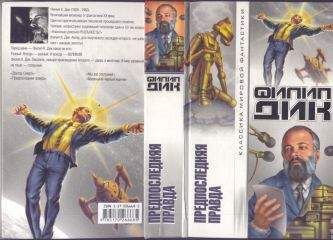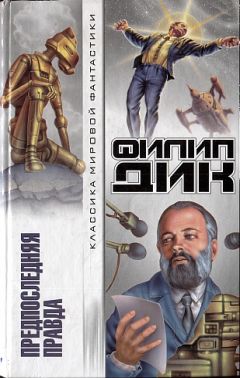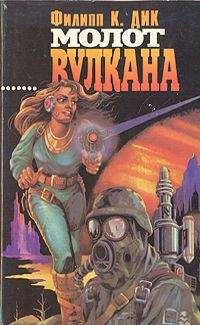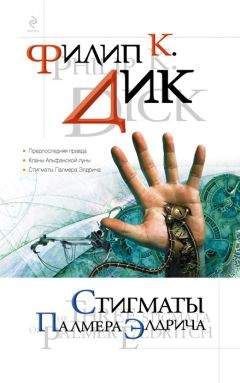Филип Дик - Предпоследняя правда
Как же мне повезло, думал Адамс, глядя на смуглого — вернее сказать, обгоревшего — молодого человека. Он уже успел обжиться: вилла давно достроена, угодья полностью засажены, всюду зелено. А в свое время это была «горячая зона» на побережье к югу от Сан-Франциско. Он хорошо заплатил фоутменам за определенные сведения, которым можно было доверять. И не прогадал. В отличие от его нового знакомого.
Да, конечно, когда-нибудь Лантано выстроит роскошную виллу— огромное строение из обломков бетона, которые когда-то были городом Шайенном. Но она будет уже не нужна Дэвиду.
Его смерть, согласно постановлению Прим-Совета, позволит снова выставить участок на конкурс. И снова начнется безумная борьба между янсменами, жаждущими захватить эту землю вместе с тем, что осталось после Лантано. Финал этой истории известен. Какая ирония… Вилла, за которую этот юноша заплатил страшной ценой — собственной жизнью — отойдет кому-то другому. Кому не придется строить, изо дня в день командуя бригадой «жестянок»…
— Как я понимаю, — сказал Адамс, — вам приходится проводить в Шайенне чертовски много времени.
Двенадцать часов в сутки, согласно постановлению Прим-Совета. Время, которое новый владелец обязан находиться в своих владениях.
— Я прилетаю сюда. Работаю, как вы успели убедиться, — Лантано направился в клавиатурный зал «Мегавака-6В», Адамс последовал за ним. — Как вы выражаетесь, Адамс, у нас еще есть работа. И я надеюсь жить и выполнять эту работу, — Лантано снова уселся за клавиатуру и уставился в распечатку.
— Что ж, во всяком случае, ваши умственные способности не пострадали, — заметил Адамс.
— Спасибо, — улыбнулся Лантано.
В течение следующего часа, пока Лантано загружал свою речь в «Мегавак», Адамс стоял рядом. Он прочитал ее целиком, потом в том виде, в котором машина передала ее кену, потом услышал ее из уст седовласого, по-отечески заботливого Тэлбота Янси. И вдруг с ужасом понял, насколько пуста его собственная речь. Убийственный контраст.
По сравнению с этим то, что лежало у него в дипломате, было просто младенческим лепетом. Ему страшно захотелось провалиться сквозь землю. Навсегда.
Откуда у этого юноши — начинающего янсмена, умирающего от облучения, — такие идеи? Откуда такая поразительная точность формулировок? Откуда он знает, каким образом вак обработает его речь… и как она прозвучит, когда кен будет произносить ее перед камерами? Ведь для этого требуются годы работы — разве не так? Именно годы потребовались ему самому, чтобы научиться тому, что он умеет сейчас. Написав фразу и просмотрев ее, представить — лишь с определенной степенью вероятности — как она будет звучать в окончательном варианте. Иными словами, в каком виде услышат ее миллионы обитателей подземелий, которые день за днем смотрят эти передачи и верят всему, что им говорят, загипнотизированные тем, что мы, янсмены, называем бессмысленным словом «печатные материалы».
Весьма подходящее название, подумал Адамс. Совершенно беспредметный предмет. Впрочем, бывают и исключения — например, хотя бы сегодняшняя речь молодого Лантано. Она подчеркивала — неохотно признал Адамс, — даже усиливала достоверность личности Янси. Но…
— Ваша речь, — сказал он Лантано, — не просто логична. Это подлинная мудрость. Она напоминает речи Цицерона, — он гордился тем, что наследует в своих работах традиции великих мастеров древности — таких, как Цицерон и Сенека, Шекспир с его монологами в исторических пьесах и Том Пейн.
Он уже засовывал листки со своей речью в дипломат, когда Дэвид Лантано сдержанно проговорил:
— Благодарю за ваши слова, Адамс. А самое ценное — то, что именно вы дали мне этот отзыв.
— И почему же?
— Понимаете, — задумчиво протянул Лантано, — я знаю: несмотря на все ограничения… — он бросил на Адамса проницательный взгляд, — вы работали изо всех сил. Думаю, вы понимаете, о чем я. Есть просто работа, а есть легкая работа и грязная работа, и этого вы тщательно избегаете. Я уже несколько лет наблюдаю за вами и заметил, что вы не похожи на большинство остальных. Броуз тоже это видит. Он срезает в ваших текстах больше, чем пропускает в эфир, но искренне вас уважает. Вынужден уважать.
— Неплохо, — заметил Адамс.
— Скажите, Адамс, вы испугались, когда Женева «ощипала» вашу лучшую работу? После того, как ваша речь миновала столько инстанций? Может быть, это было скорее недовольство — или… — Дэвид Лантано пристально поглядел на него. — Да… пожалуй, вас это напугало.
Повисла короткая пауза.
— Да, верно, — сказал Адамс. — Иногда мне действительно становится страшно. Но только ночью, когда я не в Агентстве, а у себя на вилле, в окружении «жестянок». И не тогда, когда я пишу свои речи, или прогоняю их через вак, или наблюдаю за кеном… в общем, не здесь, где… — он обвел рукой пространство, — где я что-то делаю. Только когда я остаюсь один.
Он умолк. Удивительно — он только что открыл свои самые сокровенные мысли этому юному незнакомцу. Обычно янсмены опасались вести столь доверительные беседы — любая информация личного характера могла в любой момент быть использована против него самого.
В Агентстве не прекращалась борьба за право писать речи для Янси — а фактически, быть самим Янси.
— Здесь, в Агентстве, в Нью-Йорке, — мрачно проговорил Дэвид Лантано, — мы можем сражаться друг с другом сколько угодно. Но по сути мы — единое целое. Как это называется… целостный организм[14]. Нечто подобное христиане называли братством… согласитесь, это обязывает. Но после работы, в шесть вечера, мы садимся во флапперы и разлетаемся кто куда. Пересекаем пустой континент, добираемся до виллы, населенной мыслящими конструкциями, которые могут двигаться и говорить, но… — он сделал неопределенный жест. — Они бездушные, Адамс. Все эти «железные девы», включая самых продвинутых, что заседают в Совете, — все они бездушные. Но каждый вечер, отправляясь в гости, вы берете с собой пару этих жестянок — а если вмещает флаппер, то и больше. Каждый вечер.
— Я слышал, что умные янсмены так и делают, — сказал Адамс. — Стараются поменьше сидеть дома. Я тоже пытался. Прилетал на свою виллу, ужинал и отправлялся в гости… — он подумал о Коллин и своем соседе Лейне, пока тот еще был жив. — У меня есть девушка, — вдруг вырвалось у него. — Она тоже янсмен — или, как говорят некоторые, янс-вумен. Мы время от времени встречаемся и разговариваем. Но из большого окна моей библиотеки…
— … не видно ничего, кроме тумана и прибрежных скал, — закончил за него Дэвид Лантано. — Самый мрачный на свете берег, который тянется более чем на сотню миль к югу от Сан-Франциско.