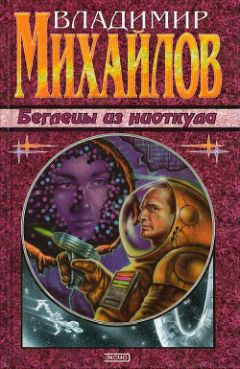Владимир Михайлов - Один на дороге
— Да. Перенесите меня куда-нибудь.
— Ушибли ногу? Сильно? Куда вас перенести?
— Я хочу в восемнадцатый век, — сказала она серьезно, как говорят о таких желаниях дети, еще не успевшие ощутить границу между реальным и сказочным.
— В восемнадцатый? — переспросил я. — Интересно. А почему именно туда?
Сейчас важно было, чтобы она говорила — безразлично, о чем. Слова облегчают; странное и великое свойство слов. Как будто вместе с ними из тебя уходит вся тяжесть.
— Мне было бы там хорошо.
— Смотря кем вы туда попали бы.
Но это, кажется, ее не волновало: видимо, была у нее уверенность, что там она оказалась бы не ниже определенного уровня, и статус ее был бы достаточно высок.
— Там все сделалось бы так, как надо.
Вряд ли она была не в своем уме; а раз так, значит, просто играла, это неплохой способ вернуть себе равновесие духа. И я решил поддержать игру.
— Я подумаю над этой проблемой. А пока, может быть, вы разрешите проводить вас домой?
Время было достаточно позднее, и вся усталость ненормального минувшего дня стала наконец показывать коготки. Я с удовольствием вспомнил об удобной кровати с откинутым одеялом в гостиничном "полулюксе". Женщина, кажется, стала приходить в себя; пока доберемся до ее дома, она, можно надеяться, окончательно справится с тем, что заставило ее так горько плакать на кладбище, у чужой могилы, в ночной час. Я знал, что реакция женщин далеко не всегда соответствует важности причины и что порой какой-нибудь пустяк может привести чуть ли не к истерике даже относительно сдержанных представительниц прекрасного пола; таким путем просто изливается сразу все, накопившееся за долгое время, а потом они опять приходят в норму, слезы высыхают, возвращается улыбка — и жизнь продолжается.
— Домой? — переспросила она как-то нерешительно. — Спасибо, нет. Я лучше еще посижу.
Домашний конфликт, понял я. Ссора с мужем, по поводу или без повода роли не играет. Выбежала из дому, хлопнув дверью, далее не одевшись как следует. (Одета она была действительно не по сезону: слишком летним было все на ней, а кофточка поверх блузки вряд ли достаточно согревала ее, если даже мне, в свитере и пиджаке, вовсе не было жарко.) Выбежала и сидит здесь просто потому, что кладбище вечером — пожалуй, самое удобное место, где можно без помех выплакать обиду, прежде чем решить, что ничего трагического не произошло, вернуться домой и лечь спать — в одиночестве (если муж провинился настолько, что заслужил отлучение) или вдвоем, если виноватой стороной была она сама (чего, конечно же, никогда не бывает).
— Долго оставаться здесь не советую, — сказал я. — Холодает, вы простудитесь. Надо было одеться потеплее. И потом, район все-таки пустынный, мало ли что…
Эти слова можно было понять, как предупреждение о том, что я тут задерживаться не собираюсь. Она так и оценила их.
— Вы идите, идите, — сказала она поспешно и, кажется, чуть обиженно. Конечно, вам незачем задерживаться. До свидания, и благодарю вас. Последние слова прозвучали неожиданно высокомерно, словно знатная дама отпускала своего вассала.
Уйти мне хотелось. Но просто так уйти было нельзя. Не то чтобы меня привлекала ситуация: неожиданное знакомство, одинокая (в эту минуту) женщина, да еще обиженная… Я не искатель приключений. И все же оставить ее не мог. Может быть потому, что сегодня (вчера, точнее, было уже заполночь) в ресторане я говорил с другой женщиной о любви, а после таких разговоров не тянет на то, что у современной молодежи называется техническим пересыпом, но напротив, хочется совершать какие-то бескорыстные поступки ради самой идеи женщины. Кроме того, мне стало и немного обидно. Восемнадцатый век — может быть, и увлекательная игра, однако правил ее я не знаю. Но думаю, что и в восемнадцатом веке люди, наверное, не бросали женщин, даже незнакомых, вот так — на произвол судьбы и в совершенно неподходящих обстоятельствах.
— Послушайте, — сказал я, не стараясь скрыть обиду. — Все-таки… — Я хотел сказать "я офицер, но понял, что в этих условиях слово прозвучало бы в ее ушах не так, как нужно: вспомнилась пошлая шутка об офицерах, которые денег не берут. — Я все-таки мужчина, может быть, вы в темноте не разглядели? И здесь я вас не оставлю. Поднимайтесь и идемте.
Наверное, мой тон подействовал на нее; как человек, приученный командовать другими, я владел богатой палитрой интонаций, от почти просьбы до категорического приказа. На сей раз это был голос с оттенком дружеской укоризны, голос старшего, опытного и доброжелательного человека, в котором повелительные нотки можно было лишь угадать — но уж угадать-то можно было. Помедлив, она встала. Человек старых традиций, я предложил ей руку, и она оперлась на нее так непринужденно и привычно, словно ей всю жизнь предлагали руку, а не брали под локоть ее самое. Женщина оказалась неожиданно высокой наверное, даже чуть выше меня; правда, потом, когда мы вышли на свет, я понял, что немалую роль в этом играли ее каблуки — сантиметров двенадцати, не менее. Мы вышли из-за куста на аллею и пошли к воротам — не прогулочным шагом, но и без излишней торопливости. Снова повеяло; ветерок был, пожалуй, даже теплым, но женщина едва заметно дрогнула.
— У вас нет с собой ничего, чтобы накинуть?
— Нет.
— Что же вы так — необдуманно?
— Да, — ответила она не сразу. — Наверное, очень необдуманно…
Мы вышли из калитки и стали подниматься к виадуку. Трамваи уже не ходили, можно было лишь надеяться, что нагонит такси или, на худой конец, частник. Впрочем, вероятнее всего, она жила где-то поблизости: поплакать не приезжают на трамвае.
— Вам далеко?
Она чуть покосилась на меня, словно давая понять, что слышала вопрос, но не ответила, и я, подождав, повторил его. На этот раз она сказала:
— Не знаю…
Она произнесла это таким тоном, каким пользуются, чтобы закончить разговор: не знаю, и все тут, и отвяжись. Но отвязаться тут нельзя было, и мне пришлось проявить настойчивость.
— Не знаете, где живете? Забыли адрес? — Может быть, с ней и правда случился какой-то припадок, приступ, и оттого она и плакала?
— Живу? А я живу? — спросила она неожиданно саму себя, и таким тоном, словно вопрос этот был очень важен, но ответ на него — совершенно неясен. Да… Живу я далеко, — это было произнесено уже нормальным голосом, как будто она ощутила наконец себя в реальной действительности. — Очень далеко.
— В Иманте? На Взморье? — Я почувствовал, как все сильнее становится чувство досады: самый простой деловой разговор превращался в какое-то жонглирование словами, продолжалась игра, к которой я вовсе не был расположен.