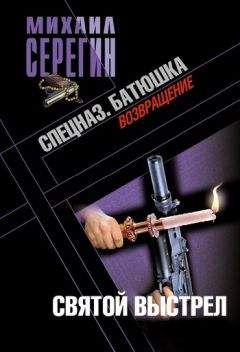Феликс Дымов - Сотворение мира
Стол сложился гармошкой и исчез в стене. Псевдоживая трава газона зашевелилась, поглощая незримые крошки.
До работы оставалось минуты четыре, не больше.
Поболтать с Лолой он, к сожалению, не успеет, а просто сказать ей доброе утро как раз времени хватит.
- Лола, к тебе можно? - спросил он, соединяясь, но не зажигая изображения.
- Конечно, Экки. Я тут.
Ох, Лолка! "Я тут!" Как будто можно куда-нибудь выйти. Да ведь если верить Игорюхе Дроздовскому, каюты же по индивидуальной мерке строятся. За пределы жилища только инзор и заглядывает, остальная часть корабля известна каждому скорее вприглядку, чем на ощупь. А она - "Я тут!". Живучи в языке эти привычки. Уж четыреста лет в звездолете ни неба, ни снега, а Руженкина дразнилка "ротом ровит" передается себе из поколения в поколение и никому не кажется бессмысленной...
Лола у рабочей ниши орудовала сразу двумя пинцетами. Перед ней скользила конвейерная лента с широкими кюветами в четыре ряда, а в кюветах - дальняя родственница хлореллы из регенерационнопищевых камер корабля. Руки Лоты двигались споро, слаженно - прищипывали, прореживали, отсаживали пустоплод, отбирали стебли на анализ. Посмотришь на летающие Лолкины пальцы - пустяковая работенка, однако же ни один автомат не справляется.
- Привет, Экки. Как от тебя кофе пахнет! А я сегодня какао заказывала.
- А я зато ночью на мамонте катался. Родий такой чудной сон подсунул...
Он опомнился и прикусил язык. У Лолы не было ни братьев, ни сестер отец ее смертельно облучился, когда ей было полтора года. Конечно, у нее есть мать, и он, Экки, но родной брат тоже бы не помешал, хотя бы младший. В роли старшего Лолкиного брата Экки не мог допустить, чтобы ей было плохо.
- Не огорчайся, Ло. Считай, эта капсула уже твоя.
А еще... Хочешь, я для тебя свой сон придумаю?
Лола кивнула и нечаянно задела локтем край кюветы. Кювета опрокинулась, по конвейеру поплыли пласты неохлореллы.
- Ну вот. Все из-за тебя! - Досадливо прикусив губу, Лола принялась за уборку.- Разве с тобой почеловечески поработаешь?
- Прости,- тихо сказал Экки, закладывая капсулу в приемник пневмопочты и набирая Лолин адрес.
Радость дарить немного поубавилась.
- Ладно, я не сержусь.- Девочка великодушно улыбнулась.- А правда, когда мы поженимся, сны у нас будут общие?
- Правда. Только это еще не скоро будет...
- Скорей бы уж, а то скучно одной.
- Родик говорит, на Новой Земле каждый получит по целых две комнаты, представляешь? Правда, мы уже старенькими будем, лет по тридцать стукнет.
- Знаешь, Экки, только ты никому не говори. Мне надоели стены. Днем стены, ночью стены, я их прямо видеть не могу, давят.
- Что ты, Ло. Они же разные.
- Уж и разные. Инзор, бытовка да картина - вот и все разнообразие.
Экки не любил такую Лолу - ворчливую, взрослую.
Лучше, когда она хохочет. Ух, как это у нее получается!
Вообще-то Лолка веселая. И умеет, не отрываясь от конвейера, болтать в рабочие часы. Он так не может, ему нужно видеть того, с кем разговариваешь. Когда руки заняты и глаза, то и языку свободы нет...
В каюте Экки звякнул звонок. Пора и ему браться за дело.
- Я пошел. После работы загляну, хорошо?
- Конечно, чего спрашиваешь?
Из стены выдавился монтажный столик. Экки взял в руки заготовку блока, нацелил точечный паяльник.
Дядя Анвар говорит, что математиком и музыкантом Экки точно не бывать: у тех и у других если до шести лет талант не прорежется, то не прорежется никогда.
Зато руки у него - первый класс. Блоки, которые он монтирует, поют. Он и мыслей не тратит, каким боком модуль повернуть, поэтому вон сколько передумать успевает. О своих. О Лоле. Об Аламаке. О Старой Земле, до которой отсюда четыреста лет, и о немыслимых просторах будущего дома. Экки, Лола, Игорюха - это уже пятнадцатое поколение в звездолете. Они Земли (Старой Земли!) не знают. Да уже, пожалуй, и не любят по-настоящему - как можно любить то, что знаешь только по слайдам да голографическим фильмам?
Зато они любят свои картины, хоть и срисованные по памяти с родной планеты, но больше все-таки изображающие их будущий мир с Аламаком вместо солнца.
Художником всех картин в каютах был прапрадед Экки - Рамон Раменьи. С помощью света и красок предок заключил в четырехугольную раму между инзором, бытовкой, полом и потолком целый похищенный у природы мир, уменьшенный до размеров стены.
Экки вогнал последний модуль, отодвинул блок, полюбовался ловкой работой и вызвал следующий.
Секунды на две он обгонял график. Пользуясь паузой, помахал горе рукой. Гора нахмурилась, чуть-чуть откачнулась вглубь...
Картина и впрямь была впечатляющей. Из правого ее верхнего угла, из-под рамки, как бы вводя зрителя и в то же время отсекая от нее, бесконечно падала подвешенная в воздухе ветка. Живым движением искривленного коричневого стебля, мелкопушистыми трепещущими листьями она слегка мешала взгляду, так и хотелось отвести ее рукой. За веткой на заднем плане жила гора, странно вмещенная от подошвы до неприступного снежного пика в тесные рамки пейзажа. На склонах горы хорошо просматривались, несмотря на свою малость, альпийский луг и стадо коров, уютная мраморная ротонда, галечниковая осыпь, водопад.
Ощутимо присутствовала даже тирольская деревушка, хоть и невидимая на картине, но, безусловно, построенная вон за тем поворотом дороги. Чтобы не подрезать вершину краем полотна, художнику пришлось слегка наклонить гору от зрителя, сделав ее тем самым еще более монументальной и замкнутой. У подошвы горы, в самом низу, торчали два округлых холма, один частично заступал другой, а между ними проглядывал кусочек озера. Вода и обводы холмов были неправдоподобно синими.
Экки не знал, каким образом картина пробуждает в нем воспоминания, тем не менее хорошо помнил, что в деревушке, в крытом черепицей островерхом домике с флюгером он когда-то пил молоко. А позади домика на выструганном ветрами языке снежника учился покорять падение: надо было гигантскими затяжными прыжками разогнаться и нестись на пятках вниз по склону, потом, взвихривая снежные смерчи, упасть навзничь и скользить на спине все быстрее, быстрее, пока не захватит дух и скорость не сделается опасной, лишь тогда перевернуться на живот, растопырить ноги и двумя руками всадить в склон ледоруб... Однажды, неудачно ткнув ледорубом в камень, Экки задел лезвием кожу на затылке... Он провел рукой по волосам и нащупал пальцами еле заметный шрамик.
Знобкий снежный пик горы и ослепительно синее лето озера тревожили Экки соединенным на одном полотне разновременьем. А уж круговорот зим и весен вообще придавал нарисованному миру странную независимость. Ведь картины служили календарями. И вопреки законам причинности, когда гора завершала год, то год добавлялся и к возрасту мальчика. Кто мог поручиться, что, творя ежесекундную связь прошлого с будущим, картины не подчинили само Время новым законам две тысячи раз выдуманного мира? Две с лишним тысячи кают вмещали связанные между собой ландшафты невсамделишной Земли, скопированные с утраченной планеты и усиленные резонансом двух тысяч бездн памяти и мечты!