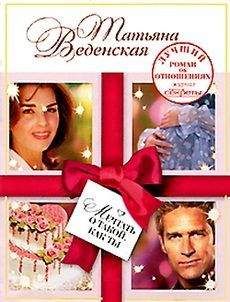Татьяна Мудрая - Золушата
С садами была особая история. Незадолго до мини-апокалипсиса речицким ботаникам удалось возродить почти исчезнувший сорт — так называемую антоновку полуторафунтовую, каждое яблоко размером в дыню-«колхозницу», — и расселить по окрестным садоводствам. Я отлично помню, как в ту осень сквозь радиационный контроль проскочил «Москвич-пикап», доверху груженный яблочными монстрами, и развернул торговлю. Большинство граждан прямо-таки шарахалось от машины, хотя хозяин клялся-божился, что антоновка чище чистого — и ни один дозиметр на неё не заверещал. Мама тогда взяла несколько штук, удивительно хрустких и душистых, просвеченных солнцем насквозь: откусить от них было невозможно — рот не открывался, приходилось резать на ломтики. Никто в нашей семье, между прочим, не умер раньше отведенного природой срока. Я так и вообще подзадержался на этом свете.
В большинстве своём антоновки стояли все в плодах до тех пор, пока их не срывало декабрьским ветром. (Октябрь насыщал плоды солнечным мёдом, а ноябрь, изрядно к тому времени потеплевший, лишь добавлял сладости.) Трудно было удержать домашнюю скотину, чтобы она их не ела, крестьян — чтобы не скармливали ей дармовое. Судя по всему, пользовались паданцами и бродячие собаки. Города оттесняли деревню, люди рубили сады под корень. Но вот диво: из корней и семян вырастала такая же неистребимая, обхватом в дуб и вышиной аж до неба, антоновка, «антонов огонь», как полупрезрительно её называли, и вновь предлагала себя всем живущим, опуская тяжкие ветви до самой земли.
Лет через тридцать гигантскими паданцами охотно кормились высокоразумные туры. К тому времени они вышли из Беловежья и расселились по всей Беларуси, учредив «на паях» с такими, как я и моя жена, сеть опорных баз. Их самих не трогали уже тогда, считая кем-то вроде оживших тотемов, а ближе к середине нового столетия учёным удалось добиться для них официального статуса «младших братьев по разуму», как незадолго до того для собак и кошек. Кстати, именно тогда мы с Ялиной подписали наш первый договор с четырехлапым телохранителем. До того нам служили за корм, крышу над головой (мордой) и просто по любви.
Итак, я естественно возвращаюсь в своему прежнему предмету. Вначале с Ксаной было совсем немного хлопот: пелёнка исправно впитывала дурные выделения и берегла от пролежней, питательные смеси самозарождались в шкафу Линии Доставки, минимум необходимой одежды можно было получить оттуда же, набрав соответствующий код. За натуральным молоком, которое очень советовал лечащий доктор, нам приходилось поочерёдно ездить на Всеволодову Ферму, но мы ведь и без того там работали. Делать гимнастику нас обучила патронажная сестра, а в наше с Ялиной отсутствие следил за благополучием младенца огромный седой ретривер по имени Тагор, дальний потомок того приблудного Тагора, который вынянчил всех наших внучат.
Но потом начало происходить нечто странное. Мы трое, до того без всяких комплексов парившие в шахте лифта, когда надо было спуститься, начали упорно воображать себе, что случится, если мы промедлим внизу, а другие пассажиры посыплются на нас, подобно осенней листве. А что получится, если при подъёме выключится энергетическая спираль? Тагор в свободном парении собирался в комок и честил меня или Ялину, кто там под лапу подвернётся, — даунами, дебилами, имбецилами и далее по списку. Что ему было и известно и без того, но почему из-за нас должна страдать девочка?
— В конце концов, зачем блаженный Велемир Хлебников, император земного шара, изобрёл дома-модули? — говорила Ялина. — Чтобы человек мог путешествовать по мирозданию, не отрываясь от своей раковины. И учти — в его времена по рельсам катились поезда, по дорогам тачанки, а про грузовые аэробусы никто и слыхом не слыхивал.
И вот мы спустились на берег Днепра рядом с Сёвкиной Фермой — одним из тех мест, где разумные туры и турицы занимались своими личными делами в промежутке между своими вояжами в Испанию, Португалию или там Индию. Говорили, что неподалёку здесь был костёл в духе неоготики, который перестали считать исторической ценностью и снесли под застройку, но возвести на его месте так ничего не сумели. Река в этом месте проходила через сложную систему естественных фильтров и была чистой на удивление. Под самой оградой фермы стояла избёнка в четыре комнаты с геотермально-изразцовой печью на стыке стен, накрытая многослойными солнечными батареями и с клубком эйфона внутри одной из комнат, который так и назывался, Клубок или Шар. К ней мы и пристыковались.
Что такое эйфон? Поясню. За прошедшие полтора столетия воздух до предела насытился всякого рода информацией наподобие того, как раньше — радиоволнами. Мало того: эта информация консервировалась и всячески обращалась, не исчезая до конца. Поэтому тот, кто хотел входить в эту своевольную реку и по своему разумению плавать в ней, должен был непременно иметь под рукой… Скажем так — средство задавать правильные вопросы, правильно себя настроив. Искусство эйфона, которое с некоторым трудом осваивали взрослые и легко постигали дети, с успехом заменяло в быту прежний интернет. Для общегосударственных целей всё же служили более громоздкие устройства, отягощённые материей.
Кровать дочери мы оставили в городской части дома, сами устроились в бревёнчатых стенах. И жизнь пошла у нас вполне идиллическая.
Вот только наша любимица, несмотря на усилия, оставалась подобием тёплой, дышащей и мигающей куклы. Даже сосательный рефлекс проявлялся всё слабее. Даже веки все реже открывались, чтобы оделить нас всех редкостным сиянием карего взгляда.
Тем не менее, Ксана росла. Далеко не так быстро, как нормальные детишки, но зато не теряя прекрасных пропорций и даже наращивая мускулы. Чуть округлялись груди, утончалась талия, узкие бёдра переходили в ноги, не по-детски полные. Тело осталось полностью безволосым, зато белокурые косы были длиннее материнских — обернуть палец можно было от «А» до «Я». Но когда Ксаной было достигнут предел физического взросления — наша дочь погрузилась в совершенное подобие летаргического сна или комы.
Мы страшно беспокоились. Мы вызывали домашнего врача каждую неделю — изнанка обычной детской гиперактивности, пожимал он плечами. Мы рассылали запросы тем приёмным родителям, которые получили таких же калек. Везде была сходная картина. Гармоничное физическое развитие, а лет в сорок-пятьдесят — остановка практически всего, что может остановиться. Состояние прекрасной мраморной статуи — именно прекрасной, потому что наши особые дети воплощали в себе застывшее совершенство.
И вот что удивительно. В России точно такие же «децепешники», живущие в интернатах или допущенные в лоно семьи, оставались обыкновенными людьми при самом продвинутом уходе. К восьмидесяти годам и самые успешные из них старели, даже умирали.