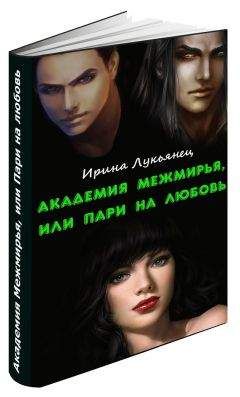Фредерик Пол - Эпоха нерешительности
Форрестер, как послушный ребенок, поднялся и, обнимая одной рукой девушку, побрел за Харой к раздаточным столикам. В светлых волосах девушки, уложенных пышной короной, играли огоньки, напоминая испуганных светлячков.
Если ему предстоит снова встретить свою единственно законную и потенциально возможную жену Дороти, вспомнил Форрестер, придется отказаться от подобных обниманий. Но именно в данный момент бытия это действие было необычайно приятно. И ободряюще. Странно, но он с огромным трудом мог припомнить и то, когда в последний раз обнимал хорошенькую девушку, и то, что всего девяносто дней назад его тело представляло собой криогенный кристалл, покоившийся в потоке жидкого гелия: сердце не билось, мозг застыл, а легкие представляли из себя бесполезный сгусток слипшейся ткани...
Пай-мальчик Форрестер послушно открыл бутылку шампанского, произнес тост и выпил. Этикетка на бутылке была незнакомой, но жидкость внутри действительно оказалась шампанским.
По просьбе Хары он промычал срифмованного "Незаконнорожденного короля Англии", ответил низким кивком на громкие аплодисменты, но не позволил отрезвить себя, хотя чувствовал, что действительно вновь начал пошатываться и запинаться.
- Декаденты-ублюдки! - дружелюбно заорал он. - Вы умеете очень многое! Но вы не умеете напиваться!
Потом они танцевали, сомкнувшись в единый круг, под пиццикато виолончели и звучание флейты. Их было более двадцати человек: они притоптывали и резко меняли направление движения, как в шуточном танце времен Робина Гуда, немного напоминая стиль Пола Джонса.
- Чарлз! Чарлз Форрестер! Ты лепишь из меня неистовую аркадианку! кричала девушка прямо ему в ухо.
Он кивнул, улыбнулся и плотнее прижался, справа - к девушке, а слева - к огромному существу в оранжевом трико, к мужчине, который, как сообщили Форрестеру, прибыл с Марса, поэтому и спотыкался, сражаясь с гравитацией Земли. Но марсианин только смеялся. Смеялись все. Многие, очевидно, смеялись над Форрестером, наблюдая за его неуклюжими попытками попасть в ритм танца. И все же громче всех смеялся Форрестер.
После этого общего танца он практически ничего не помнил. В общем хоре криков и советов о том, как поступить с Форрестером, прозвучало даже нездоровое предложение протрезвить его, но предложение вызвало лишь путаные смешливые споры. А счастливый Форрестер кивал, кивал и кивал глиняной головой на растянутой пружине. Он не помнил, когда закончилась вечеринка. Осталось только смутное предсонное воспоминание - девушка вела его по пустынной улице с высокими, темными, как монументы, сооружениями, а он перекликался с собственным эхом и подпевал ему.
Но он помнил, что целовал девушку и неустойчивый афродиазивный аромат, вырвавшийся из ее инджойера, наполнил его странной смесью чувств страсти и страха. Но дальше... он не помнил, как вернулся в комнату и лег спать.
Проснулся он утром - жизнерадостный, отдохнувший, полный сил, но... в одиночестве.
2
Форрестер проснулся в овальной, упругой и уютно-теплой кровати, которая разбудила его успокаивающе-веселым урчащим звуком. Стоило ему зашевелиться, и звук прекратился, а поверхность под ним принялась легко массировать его мышцы. Зажегся свет. Вдали тихо заиграла прекрасная музыка, напоминавшая цыганское трио. Форрестер потянулся, зевнул, изучил языком зубы и сел.
- Доброе утро, человек Форрестер, - сказала кровать. - Время восемь пятьдесят. У вас назначена встреча на девять семьдесят пять. Уже можно передать информацию о звонивших?
- Позже, - не задумываясь ответил Форрестер. Хара предупредил его о говорящей кровати, и Форрестер не испугался; он как-то сразу осознал, что это не опасность, а очередное преимущество, составная часть комфорта нового приветливого мира.
Форрестер, сгоревший заживо в тридцать семь во время пожара, по-прежнему считал, что не состарился даже на год.
Он прикурил сигарету, тщательно, как решил с вечера, проанализировал ситуацию и заключил, что впервые в истории мира тридцатисемилетний человек находится в столь удивительном положении. Он - участник "чуда". Жизнь. Здоровье. Круг замечательных знакомых. И четверть миллиона долларов.
Разумеется, он не был уникален, как сам себя воспринимал. Но только полностью восприняв факт своей смерти и воскрешения, не думая о миллионах и миллионах ему подобных, он мог чувствовать свою уникальность. И чувство сие было прекрасным.
- Только что получено новое сообщение, человек Форрестер, - сказала кровать.
- Притормози его, - посоветовал Форрестер. - Сначала я выпью чашку кофе.
- Вы хотите получить чашку кофе, человек Форрестер?
- Ты знаешь, что ты - зануда? Я сам скажу, чего я хочу, когда действительно захочу. Понятно?
Чего Форрестер хотел по-настоящему и в чем он не признался даже самому себе, - желание растянуть удивительный момент сладостной отстраненности. Это было сродни освобождению и напоминало его первую неделю службы в армии, когда он осознал, что есть два пути отбарабанить срок: легкий и тяжелый. Легкий путь вычеркивал принятие собственных решений, и личная инициатива пресекалась. Ты подчиняешься приказам, а само пребывание в армии сопоставимо с продолжительным отпуском в плохо оборудованном лагере для взрослых.
Здесь обстановка была роскошной. Но принцип поведения оставался армейским. Форрестеру нет нужды нагружать себя обязательствами. У него просто нет никаких обязательств. Он не должен тревожиться о том, чтобы дети не проспали школу, ведь у него не было больше детей. Он не должен больше ломать голову над тем, чтобы у жены было достаточно денег на ежедневные расходы, ведь у него не было больше жены. И, имей он желание, можно снова лечь, натянуть одеяло на голову и заснуть. Никто не остановит его; и никто не обидится. Если надумает, то он может напиться, может подольститься к девушке, может сесть и написать стихотворение. Все его долги уплачены или забыты за прошедшие столетия. Все его обещания исполнены, а неисполненные лежат вне пределов вероятного исполнения. Ложь, сказанная им Дороти об уик-энде 1962 года, далее не должна беспокоить его. Даже если правда и откроется, то она всем будет безразлична, но и сам факт того, что правду узнают, был невероятен.
Короче говоря, список его прегрешений чист. Можно начинать жить.
К тому же у него на руках весьма солидные гарантии продолжительной жизни. Ой не болен. Не существует никаких угроз его жизни. Даже опухоль, которую он заметил на ноге за несколько дней до смерти, не могла и далее оставаться злокачественной или хоть как-то угрожать его жизни; в противном случае доктора из Дорментория удалили бы ее. Ему не стоило беспокоиться даже о неприятной перспективе попасть под машину, - если таковые еще существовали - ведь даже при наихудшем раскладе это могло означать не более, чем несколько столетий в ванне с жидким гелием, а затем возвращение к жизни, которая станет еще прекрасней, чем ранее.