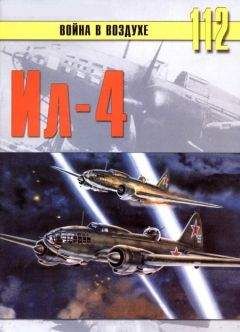В. Поздняков - Кубок майора Косицына
— Ну, Горя, — сказал он, — можно начать мою историю. Слушай — и ничему не удивляйся… Впрочем, удивляться можешь, есть чему. Только, только… верь, — закончил он с какой-то просящей, жалобной улыбкой.
— Герой моей истории — вон, — продолжал он, указывая на стоящий у кровати стол.
Георгий Сергеевич только сейчас заметил на нем своего старого знакомого — большой, отливающий тускло-серым металлическим цветом кубок.
— Много выпито из этого кубка вина и горя. Вино пил мой отец, а горе — мы с ним вместе, — усмехнулся старик. — Но, слушай дальше, мальчик.
Дед поправил подушку, лег поудобнее, осторожно ворочая свое большое, умирающее тело и, откашлявшись, начал.
III.— Отец мой, Максим Максимыч, как тебе, может быть, известно, был мот, пьяница и игрок. Из песни слова не выкинешь, Горя, и только этими свойствами его характера можно объяснить то, что наложило тяжелую печать на мою и на его жизнь, что превратило в ничто величайшее достижение разумных существ. Судьба сыграла над этим достижением такую глупейшую шутку, что становится страшно. Ну, да ладно, не буду говорить загадками…
После сражения под Тарутиным, в Наполеоновскую кампанию, отец мой, двадцативосьмилетним капитаном был ранен осколком снаряда в ногу и эвакуировался в тыл.
Отправился он в наше имение Нижегородской губернии, Шумово, и стал ждать там выздоровления.
Однажды, сидя у себя в кабинете и попивая вино, он был потревожен лакеем Егорычем, который ему доложил, что вернувшийся с медных рудников Урала, тогда еще не опущенных в карты, приказчик Кузмичев желает его видеть.
Нужно тебе заметить, Горя, что все это я рассказываю со слов отца, накануне смерти побеседовавшего со мной в состоянии, уже близком к старческому маразму. Кое-что забылось, кое-что, может быть, перепутано.
Кузмичев был толковый, грамотный, живо интересующийся всем человек. Отец его любил, доверял ему, а потому, во-первых, и отправил его на рудники проверить работу, а во-вторых, не послал к чорту[3] за то, что тот помешал ему в его уединении.
Кузмичев вошел, поклонился и поставил на стол что-то, завернутое в домотканный красный платок.
— До вашей милости, барин, — сказал он. — Так что дела на Макарьевском руднике идут ходко, за прошлый месяц руды пудов четыреста нарыли да и за позапрошлый, почитай, столько же. Митька Дробыш дело понимает и касательно поведения его никакого сумления быть не может. Бьет Митька милости вашей челом и просит не гневаться — принять сей презент.
Развернул платок и подносит к самому баринову носу что-то продолговатое, круглое, темно-серое.
— Так что на самом дне шахты, в канун Покрова дня, вырыли эту штуку. Головка в ей отвинчивается, лежат в ей бумаги — люди мы темные, понять не можем, что к чему.
Так что на самом дне шахты вырыли эту штуку…
Взял отец эту штуку в руки и видит — действительно, цилиндр этак вершков пяти в длину, около двух в диаметре. Головка круглая, отвинчивается. Весь темно-серый, тяжелый страшно, фунтов на десять. Отвернул головку, а Кузмичев говорит:
— Долго бился Митька над головкой этой самой — никак не отвернуть. Вся штука эта коростой была покрыта, вершка на полтора толщиной. Долго коросту эту отбивали, прежде чем она настоящий свой материал показала. А когда головку отвинтили, свист пошел…
Отвинтил отец головку, заглянул внутрь и видит — в первом цилиндре второй, но уже не металлический, а из какого-то темного, гибкого, как резина, вещества. И с крышкой. Снял эту крышку, а в нем свернутые бумаги лежат. Развернул их — знаки какие-то, черточки, крестики, и бумага не обыкновенная, а желтая, полупрозрачная. Кузмичев же продолжает:
— Была в ей, в штуке этой, еще коробочка одна, крохотная, этак с полпальца длиной. В коробочке этой, как Митька сказывал, были зернышки какие-то насыпаны разные. Винится Митька перед тобой, барин. Утянули евонные ребятишки эту коробочку, затеряли, а зернышки, как сказывали потом, сожрали — кисленькие, говорят.
Смотрит мой отец на бумаги и не понимает ничего. Кузмичев же — дальше:
— Чуднейшая историй с бумагами этими, барин, вышла. Баба Митькина, Степанида, дура, что ни на есть на всех рудниках первеющая, увидела как-то одну из бумажек этих на лавке — забыл Митька за делом — и когда стала огонь в шестке разводить, сунула в костерок, чтоб бойчее разгорелся и — диво дивное — не горит бумага, хоть тресни. А тут сам Митька шасть в двери, хотел бабу облаять, да видит больно занятно. Кругом щепа занялась, огонь столбом, а бумага лежит, и хоть бы ей что…
Ушел Кузмичев, и стал ломать над всем этим голову мой отец. Нарисованы на бумагах знаки разные, кружки какие-то, червячки, уродцы. Вертел в руках штуку эту металлическую, ножом ковырнул — зазубрина на ноже, как на воске, а нож толедской стали. Попробовал бумагу поджечь, в камин сунул — действительно не горит…
Ломал, ломал голову, плюнул, налил себе еще вина, охмелел, спать лег.
А на утро курьер от самого графа Палена, командира дивизии, приказ привез: быть капитану Косицыну в Петербурге — в своем полку. Нужно было на Париж итти.
Наскоро собрался мой отец (выехать мог, рана зажила) и отправился в Питер. Захватил с собой и Митькин подарок. Да впопыхах некоторые из бумажек забыл. Забыл и футляр из неизвестного материала. Собирался бы толком, может и ничего с собой не взял бы. А тут, что под руку попалось, то в сундуки и сунул. Да, кроме того, признавался, здорово он пьян был, когда вместе, с Егорычем укладывался.
Когда оказался в Париже, не до цилиндра этого было. Тогда наших офицеров там на руках носили. Закрутился он, с бала на бал, с попойки на попойку. Влюбился во француженку одну, и когда стали войска наши из Парижа уходить, плюнул на все, подал прошение об отставке и с чином майора остался в Париже.
Увидела как-то его француженка Митькин подарок, бумаги выкинула, головку отвинтила, а оставшийся таким образом стакан себе на стол поставила. Чего он ей понравился — неизвестно: некрасивый был с виду, металл тусклый, единственно что — вес куда больше, чем если бы он из серебра или железа был сделан, и звон замечательный. Ударит это она по нему пальчиком — дзинь — как хрусталь звенит.
Прожил он с француженкой этой десять лет — Марго ее звали, по фамилии Кутюрье. А потом она умерла. И хотя прожил он с ней угарную жизнь, трезвый, как сам говорил, никогда с ней не целовался, но нужно отдать справедливость ему — долго и сильно горевал о ней. Пьяное было горе, но от того, может быть, еще более горькое. И в память покойной заказал сделать из металлического цилиндра Митькиного — кубок.