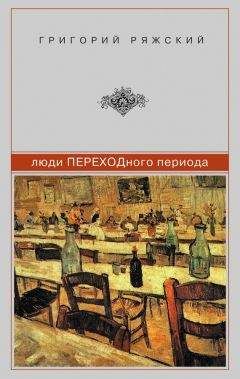Григорий Цуркин - Милый птенчик
Кандидат сельскохозяйственных наук Шульгин П.».
Может быть, он и прав? Проклятые бумаги высасывают столько мыслей, которые погибают, попадая грызунам на завтрак. И страшно то, что вся жизнь может пройти в пространстве между шкафом для хранения бумаг и мусорной корзиной. А Паша скоро будет доктором. От него всего можно ожидать. Напористый, дьявол!
Написал ему, что отпуск получу с 1 августа. Проведем его вместе. Это было бы весьма кстати.
* * *
Увы! Я ничего не смог поделать со своим строгим начальником. Он нагрузил на меня такое количество бумаг, что отпуск мой постепенно переполз на декабрь. И скрепя сердце я шмыгал на лыжах в подмосковном доме отдыха и дал себе слово в будущем году обязательно навестить моего друга. Заявление об отпуске подал уже в апреле с учетом коэффициента сползания. А от Павла ни слуху ни духу. Только в мае он разразился небольшим посланием.
«Портфель из телячьей кожи!
Спрашивал я тебя как-то о струтиомимусе. Знаешь ли ты, мол, что это такое? Объясняю: в меловом периоде мезозойской эры существовал такой предок современного страуса. Не смущайся, от него нас отделяют каких-нибудь тридцать пять миллионов лет. Это странный длинноногий бегун с сильным хвостом. Он уже беззуб и имеет ороговелый клюв. Короткие остатки передних ног, которыми он еще умел хватать пищу. Эта крошка достигала шестиметрового роста. Питались струтиомимусы черт знает чем: травой, яйцами птиц и мелкими животными.
Путем сложной гибридизации мы получили нечто похожее. Птенец растет не по дням, а по часам. И всю нашу птицу он, мерзавец, перетоптал своими ножищами. Вспоминаю „Остров эпиорниса“ Г. Уэллса. Но наш милый птенчик даст уэллсовскому выродку сто очков вперед. Если ты, наконец, соизволишь прибыть в наши края, будет на что посмотреть. Проклятый птенец страшно не любит желтого цвета. Прошел я как-то а желтых трусах около вольера, так он готов был от ярости проволочную сетку сокрушить.
Приезжай. Жду».
Хороши шуточки! Струтиомимус! Всю литературу перерыл, но, к сожалению, о нем почти ничего не сказано. Но взрослой эта птица, вероятно, производила дикое впечатление. И бегала чуть ли не со скоростью курьерского поезда. Но летать не могла. Приручить ее будет не так легко, но зато какие перспективы! Павлу определенно повезло. Эх, почему я не зоолог?
А мой отпуск, как я и предполагал, переполз уже два раза, но август будет моим, чего бы это мне ни стоило.
В июле я заготовил категорическое заявление своему начальнику Глебу Борисовичу, старому, лысому холостяку, великолепному работнику и неисправимому педанту. Он пришел, как всегда, минута в минуту, снял пенсне и стал протирать его. В эту минуту я и подсунул ему свою реляцию. Он водрузил пенсне, молча прочел и отодвинул заявление жестом, которым отгоняют муху. Я снова подвинул заявление ему под нос. Он вскинул голову, посмотрел строго, но я приложил руку к сердцу, а жест сей означает: хоть зарежьте — не отстану. Он вздохнул, вынул ручку и размашисто начертал: «С 20 июля считать в отпуске».
С этого дня ночи мои стали бессонными, а неделя тянулась так медленно, словно ее кто-то держал клещами с той стороны. Багаж свой я уложил в большой портфель, билет на самолет купил заблаговременно и вечером двадцатого был уже в Гурьеве. С помощью гостеприимного завхоза базы в шесть часов утра двадцать первого был посажен на попутную машину, и мы тронулись в путь. Мы — потому что в кузове полуторки ехал еще молодой казах Кизилбаев в серой войлочной шляпе. Он возвращался из отпуска на работу в заповедник. Дорога проходила в трех километрах от усадьбы заповедника, и шофер обещал сбросить нас в самом удобном месте. Мой спутник рассматривал своими узкими глазами рощи, поля, озера и гудел, точно комар, монотонную песенку. Мы дружно чихали от пыли, и, так как он плохо говорил по-русски, а я совершенно не владел казахским, беседа наша ограничивалась подмаргиваниями, улыбками и жестами, понятными всем народам.
К пяти часам вечера мы снова ощутили под собой твердую почву, угостили шофера папироской, закурили и пожелали ему счастливого пути. Кизилбаев, как старожил, отверг длинный путь по дороге, и мы тронулись напрямик, по клеверному полю, к роще с длинным белым зданием усадьбы. Пахло близким морем, было тихо и безлюдно. Вероятно, служащие после работы отдыхают.
— Море далеко? — спросил я спутника.
— Тири-пят километр, — ответил он.
Я не стал уточнять расстояния, и мы спокойно вошли в распахнутые ворота с табличками на столбах «Заповедник „Лукоморье“» и «Посторонним вход воспрещен». Во дворе был большой круглый цветник, а далее — высокий сетчатый забор. И кругом на траве валялось какое-то тряпье. Мы тихо подошли к входу здания и обнаружили, что дверь сорвана с петель и валяется тут же, а ближние окна выбиты. И в здании тоже никого.
— Ой-бой! — покачал головой Кизилбаев и, сложив руки рупором, прокричал в степь высоким, протяжным криком: — Алексей Иваныч! Э-эй, Алексей Иваныч!
Произошло что-то непонятное. Послышался страшный топот, и, когда Кизилбаев оглянулся, я заметил, как лицо его побледнело. С криком бросился он в здание и в дверь направо. Я механически выскочил в окно наружу и опомнился лишь на крыше, куда вскочил по пожарной лестнице. Я стоял около массивной трубы и крепко держался за нее. В здании что-то топталось, храпело и шипело. Слышались резкие взвизги Кизилбаева и его крики. Наконец все затихло, и над крышей взвилась голова птицы величиной с футбольный мяч, сидящая на непомерно голой и длинной шее. Она стремительно рванулась ко мне, зашипела, и я мигом скрылся за трубой. Точно в кошмаре, смотрели на меня близкие круглые зеленые глаза с кроваво-красным ободком, а широкий клюв с зазубринами ритмически раскрывался и щелкал около моей физиономии. Скоро птица отвлеклась, подняла голову и пошла по двору, грозно посматривая на меня одним глазом. Мощные ноги у нее оказались трехпалыми, передние конечности были короткими. Она подошла к вольеру, нырнула в один из разрывов сетки и занялась своим делом — позже я рассмотрел, что она давит улья пчельника и лакомится медом. На пчел, облепивших ее, она не реагировала.
Тихо спустился я по железу крыши и, опустив голову, позвал: «Кизилбаев!» Птица повернулась и угрожающе хрюкнула. Я снова укрылся за трубой и только тут обнаружил, что портфель мой со мной и плотно прижат рукой к левому боку. Положив его на трубу, я вынул бинокль и стал осматривать окрестности: двор оказался разгромленным основательно. Сетка вольера была прорвана, а за ней валялись раздавленные кролики. Ближе на земле я увидел три палатки, лежавшие в страшно истерзанном виде, тут же валялся разбитый чемодан с бельем, разбросанным по двору. У здания были видны раздавленный стул, чей-то портфель, две кепки, соломенная шляпа, туфля и другие мелочи гардероба. За сеткой виднелись луга, небольшие рощицы, а далее, за широкой стеной камыша, ощущалось море. Справа, метрах в четырехстах, тянулась линия трехфазного тока, толстые провода которой низко провисали над землей, а за ней дальше — тоже камыши. За ним просвечивали небольшие озера. Что же произошло с людьми заповедника? Где они? И что привело в такую ярость эту дикую птицу? Неужели кого-нибудь она догнала и растоптала?