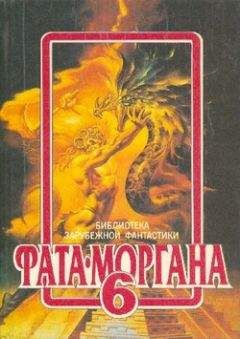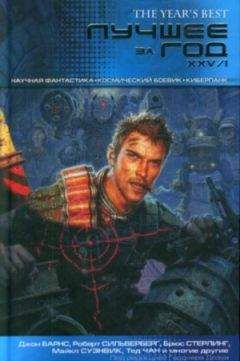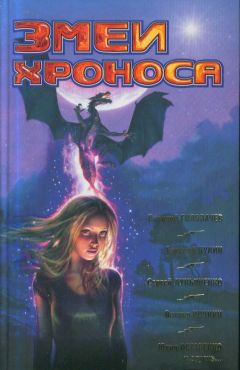Эрик Маккормак - Празднество
Женщина перестала извиваться, крик оборвался. То, что жило внутри ее, решило больше не ждать. Затаив дыхание, следили мы, как оно выскользнуло из материнского лона, из материнской боли. Женщина молчала, молчала, как мертвая. Мы с тобой со страхом смотрели друг на друга.
Что ж мы ожидали увидеть? Я задаю себе этот вопрос до сих пор и не знаю ответа. Демона? Чудовище? Что мы ДОЛЖНЫ были увидеть? Каждый свое? Каждый - свой самый затаенный страх, носимый глубоко внутри и дождавшийся удачи обрести плоть? Не знаю. Могу говорить лишь о своих страхах.
Но - какое облегчение, какой восторг! - на циновках в центре зала лежал ребенок. Обычный новорожденный человечек, все еще связанный с матерью пуповиной. Кажется, я готов был смеяться от счастья, как смеялись ребятишки вокруг. Мы с тобой улыбнулись друг другу, и такими же улыбками расцвел весь зал, улыбками облегчения, приветствующими ребенка.
Мэр выступил вперед - зазвенела цепь, сверкнули в свете прожекторов очки. Женщина лежала на полу, лежала не шевелясь, и только тяжело поднимающаяся и опадающая грудь свидетельствовала, что она жива - жива, несмотря на все еще текущую кровь. Крошечное создание меж ее ног молчало, однако ручки и ножки, покрытые кровью и слизью, время от времени подергивались. Мэр взял протянутые ему ножницы, опустился на колени, перерезал пуповину - и высоко поднял ребенка над головой, показал зрителям, - как некий драгоценный приз.
Молчание. Потом - первый радостный шепот, потом - восхищенные крики, захлестывающие зал. Мы тоже кричали, мы оба, обнимали друг друга, пожимали руки сидящим рядом. Малыш, вознесенный руками мэра, поднял головку. Открылись глазки, впервые смотрящие на мир. Открылись, чтобы увидеть зал, чтобы первым в жизни взглядом впитать наши счастливые лица.
Женщина на циновке лежала в луже крови, ждала, пока отойдет послед. Наконец с трудом повернула голову и посмотрела на того, кого произвела на этот свет. Посмотрела на ребенка - в тот самый миг, когда он посмотрел на мать, - и во взгляде ее не было ничего, кроме боли и тревоги. Детское личико побагровело, сморщилось. Малыш закричал, и первый его крик, отраженный стенами зала, разнесся далеко в ночь.
Маленький гостиничный бар в первую ночь празднества был полон. Люди хлопали нас по плечу, ставили выпивку, счастливые, что гости, особенно такие, как мы, были свидетелями столь радостного события. Прекрасное начало празднества!
"Ну как - еще по одной?"
"Почему бы и нет?"
Мы не могли дождаться минуты, когда потихоньку выйдем из бара и поднимемся в свою комнату. Постель была сырая, но нас это мало волновало, мы просто торопливо сбросили одежду и рухнули на кровать. Мы обнялись так, как не обнимались уже очень давно. Мы целовались, ласкали друг друга, любили друг друга, крича от наслаждения. А потом мы уснули.
Много позже я ощутил предрассветную прохладу, поправил одеяло, положил голову на твое плечо - и не просыпался уже до утра...
Вторая ночь тоже была одета туманом, и снова мы шли к спортзалу, снова шли в толпе фермеров, шахтеров, их жен и детей, то розовощеких и коренастых, то стройных и светлокожих. Нас снова вежливо приветствовали, но, показалось мне, более принужденно, чем вчера. Ты этого не заметил, и мы поспорили.
Половина восьмого - и зал полон. Широкая полоса света, направленного на пол, тянется от длинного запасного выхода к другому. Мэр, энергичный, как обычно, и директор, выглядящий довольно неуверенно, выходят на середину зала и расходятся в разные концы освещенной полосы: мэр становится у одной двери, директор - у другой.
Они поворачиваются и отвешивают друг другу формальный, старомодный поклон. Каждый распахивает свою дверь в ночную тьму.
"Может быть, для нас еще не поздно?"
"А что - что-нибудь изменилось?"
В зал врывается свежий воздух, растворяет въевшуюся вонь дешевой мастики. Мы облегченно вдыхаем и ждем того неизвестного, что должно произойти.
Долго ждать не приходится. Издалека доносится тихое жужжание, словно электропила пилит дерево. Звук становится громче, приближается к залу, и мы, изумленно глядя друг на друга, теряемся в догадках - что бы это могло быть?
Минута - и в открытую дверь справа словно бы темная жижа начинает медленно растекаться по освещенному полу. Живая темная жижа. Поток насекомых вползает в полосу света, целеустремленно, по прямой.
Это уже не жужжание, слышанное нами чуть раньше, до сих пор доносящееся издалека. Шипящий шорох, шуршание множества крошечных ног, панцири брюшек, скребущих по деревянному полу. С ужасом смотрим мы на это нежданное вторжение, ожидая, что черные волны вот-вот подберутся к нашим ногам.
Но - нет. Насекомые не покидают полосы света. Впереди, насколько я вижу, - муравьи и бронзовики, огромные массы маленьких тварей, а за ними другие, побольше, бесчисленно разнообразные по форме и цвету, среди прочих светляки - точно ожившие жемчужины. Они остановились, разбились на группы, только иные из муравьев ненадолго отклонились от курса, привлеченные разбросанным по полу поп-корном, - и, подхватив мелкие кусочки, снова слились в армию сородичей.
Появились тараканы - извивающиеся антенны усиков, миллионы ног, которые не то что пересчитать - разглядеть трудно, а за ними - словно скользящие по полу сороконожки, многоножки, некоторые - едва ли не в фут длиной. Мы судорожно поджимаем ноги, готовые при первом же признаке опасности вскочить на сиденья.
Но - странное дело - постепенно мы как будто привыкаем к насекомым, вот уже зрители переговариваются, смеются, страх исчез. Мы сейчас - зеваки на параде, и я не могу отделаться от ощущения, что демонстрирующие себя насекомые отлично осознают свою роль.
Громкоговоритель дополняет картину парада, он оживает, кашляет, хрипит и разражается искаженным голосом. Голос называет каждый новый вид, вползающий в зал - названия, о которых прежде я и слыхом не слыхивал. Жуки-пожарники, майские жуки, жуки-бизоны, жуки-арлекины, священные скарабеи, жуки-вонючки (ребятишки заливисто смеются и зажимают носы), богомолы (выглядят, словно только что с некоего жучиного поля брани).
Жужжание снаружи не стихает, нет, становится громче, перекрывает и шипение с пола, и шушуканье зрителей. Никто из насекомых не покидает зала. Они замедляют ход у противоположной двери и, похоже, маршируют на месте странная армия, заполнившая движением и шумом уже большую часть освещенной полосы.
Только что - арьергардом - вползли сверчки, расположились на остатках свободного пространства. Все? О, нет. Жужжание, раскраивающее ночной воздух, взрывает зал, и я ошеломленно зажимаю уши, унимая резкую боль.
Мухи. Облака мух, вихри мух, черные смерчи мух. Мухи, какие только водятся на свете. Обычные, мясные, черные. Мошки, слепни. За ними уже следуют комары, москиты, стрекозы. Забито пространство над шевелящимся полом. Воздух темнеет, как вода в аквариуме, окрашенная чернилами. Последние, опоздавшие кузнечики торопливо влетают в двери - и растворяются в живой черноте, и с трудом из нее выбираются, как чудом выжившие ныряльщики. Свет в зале почти погас, скрытый жужжащими грозовыми тучами, мы отрезаны от зрителей по другую сторону зала.