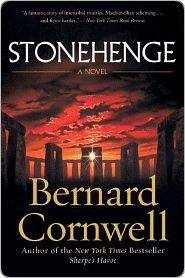Н Никандров - Проклятые зажигалки !
Но уже на дворе, в темноте, возле дверей, вспыхнул желтый, густо чадящий огонек зажигалки; в мангалке весело затрещала, застреляла и заблагоухала, как ладан, сухая, смолистая, сосновая щепа; жарко охватились синими и красными язычками пламени и тоненько запели, зазвенели, корежась и переворачиваясь в огне, древесные уголья; узенький дворик, заваленный вдоль высоких заборов старым ржавым железным хламом, весь озарился странным фантастическим колеблющимся светом, и черная, взъерошенная, в очках, фигура Афанасия, таинственно хлопочущая возле полыхающего огня, была похожа в этот час на колдуна, одиноко варившего на жаровне под покровом глухой ночи свои могущественные зелья.
Когда все уголья в мангалке обратились в одну сплошную красную огненную массу, Афанасий подхватил мангалку за ушки, отвернул наморщенное лицо от жара вбок, вбежал с мангалкой в мастерскую, как вбегают с кипящим самоваром в столовую, поставил ее на пол, воткнул глубоко в жар паяльник, потом, через две-три минуты вынув его оттуда с красным, язвенно-воспаленным концом, начал быстро впаивать в каждый корпус по два донышка, - одно верхнее, одно нижнее. Когда конец паяльника чернел, он опять зарывал его в красный жар.
На лице старого рабочего-металлиста, сидящего на табурете с паяльником в одной руке, с медной трубкой в другой, были написаны усердие, выдержка, уверенность в себе, торжество, любование своей работой и сдержанный восторг перед собственным мастерством. И из его крепких, верных, давно прометалличенных рук, работающих с правильностью стальных рычагов машины, уже выходили на божий свет, странно веселя глаз, первые подобия зажигалок, их зародыши, их младенчики, еще бесформенные, голые, гладкие, очень далекие от эффектно-сложного вида готовых зажигалок, как червеобразные гусеницы далеки от вида элегантно-крылатых бабочек.
Чтобы даром не пропадал хороший жар, Афанасий, по обыкновению, еще в самом начале поставил на мангалку громадный закопченный жестяной чайник с водой для утреннего чая. И теперь вода, нагреваясь, вздрагивала, стукалась в жестяные стенки чайника, пукала, потом, обрываясь и меняя один на другой тон, смелее и смелее затянула, в подражание самовару, бесконечную, заунывную, в две-три ноты, калмыцко-русскую песенку.
Оттого, что работа у мастера ладилась хорошо, время летело для него незаметно. И вскоре он услышал, как на всем пространстве города и дальше за городом изо всей мочи загорланили петухи. Они так старались, эти глупые домашние птицы, так надрывались, что по их крику живо представлялось, как они при этом становились на цыпочки, задирали головы, надувались.
В пении петухов вообще содержится что-то необычайно дутое, напыщенное, излишне-торжественное, как в парадном выходе к народу короля, в смешной короне, в неудобной мантии; но вместе с тем в этом пении, несомненно, звучит и что-то ребяческое, простое, глупое, очень здоровое и нужное для земли, принимающее жизнь такою, какая она есть. И Афанасий, едва закричали первые петухи, сразу почувствовал, как от его груди отлегла какая-то большая смутная тяжесть. Теперь-то он не одинок!
Он бросил на стол медь, инструмент, расправил спину, руки, размял в воздухе пальцы, отсунул выше бровей на лоб очки и довольным взглядом обвел всю свою сегодняшнюю работу: много ли сделано до петухов?
- Данька!.. - затем приступил он к самой неприятной своей ежедневной обязанности - будить на работу своего взрослого сына, тоже токаря по металлу, спавшего в этой же комнате, у дальней стены. - Дань, а Дань! грубовато и вместе по-отцовски нежно окликал он единственного своего сына, свою надежду. - Слышь!.. Вставай!.. Уже пора!.. Светает!..
И он направил издали на лицо сына широкий сноп ослепительно белого света светильника.
II.
Данила не шевелился, не отзывался.
Здоровенный малый, с давно нестриженными желтыми волосами, веером закрывавшими весь его лоб, и с первыми светлыми кучерявыми бачками на щеках, он лежал на боку, лицом к свету светильника, подложив под одну щеку кисти обеих рук, и могуче дышал через раздувавшиеся ноздри.
В противоположность отцу, в эти предрассветные часы ему спалось особенно хорошо!
Вечерами он поздно засиживался в студии местного союза художников. С некоторых пор он очень усердно занимался там живописью. Он был необыкновенный человек. Кроме нечеловеческой силы, кроме железного здоровья, природа дала ему еще много и других талантов, в которых он долгое время никак не мог разобраться. Казалось, стоило этому чудо-богатырю встряхнуться, как с него посыплются на землю таланты. Даниле это было даже самому смешно, ему невольно припоминалась соблазнявшая его в детстве вывеска одной кондитерской, изображавшая опрокинутый рог изобилия, из широкого раструба которого без конца сыпались разноцветные пирожные, вотрушки с изюмом, крендели. Точно так же глаза его разбегались и теперь, при обнаружении у себя всевозможных талантов, и он не знал, за какой из них ухватиться: все были соблазнительно-хороши. И с самоуверенностью молодости набрасываясь то на одну бесплатную студию при наробразе, то на другую, он за четыре года советской власти чуть-чуть не сделался сперва знаменитым оперным певцом, таким, как Собинов, потом известным писателем, таким, как Максим Горький, чемпионом мира по поднятию тяжестей и борьбе, как Поддубный, политическим оратором, драматическим актером... В самое последнее время одна отзывчивая дама, художница, совершенно случайно открыла в нем новое дарование, подлинный талант к живописи и притом такой, какие родятся по одному в столетие. Чтобы не ошибиться, она водила его показывать от одного специалиста к другому, как больного тяжелой болезнью водят от доктора к доктору, и Данила видел, какое он производил на всех впечатление своими набросками карандашом с натуры. И он тогда же раз-на-всегда решил, что все предыдущие его увлечения и успехи были ошибками, поисками себя, и что настоящее его призвание именно тут и только тут, - в живописи. И на улице, на которой он родился, вырос и жил, теперь его иначе не называли, как "Второй Репин", как раньше титуловали "Второй Максим Горький", "Второй Собинов", "Второй Поддубный"...
Отец постоял над Данилой, посмотрел на его исполинскую фигуру, не умещавшуюся на постели, на красную, полную, лоснящуюся физиономию, утопавшую в подушке, на жирную шею, собравшуюся на затылке складками, вслушался в его шумное, здоровое, беспечное, жадное до жизни дыхание, очень родственное тому пению петухов, - и чувство зависти к сыну зашевелилось в нем.
- Вот что значит не иметь ничего в голове!.. - подумал он, с желчной улыбкой на искривленных губах. - Ну, разве это человек?.. Разве он когда-нибудь думает об зажигалках?..