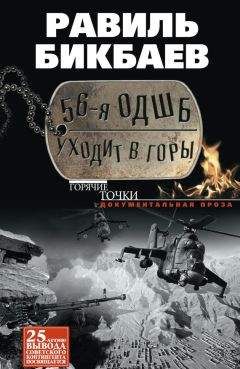Всеволод Иванов - В круге света
— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.
— На Скиронской.
— Так кого ж мне бояться?
— Сына Эола, — ответил старик, боязливо оглядываясь.
Солдат захохотал.
— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?
— Увидишь, — ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.
Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь… Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»
Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.
Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах я друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.
Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.
Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он. — Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хваставший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!»
И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди. Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатого его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой пахло дымом и оливковым маслом. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.
«Почему — нещадном? Откуда — нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»
Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.
Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то, что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.
Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней — несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.
Но — не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.
Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.
Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя, словно днем на площади.
А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусок ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»
И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими глазами и разгульными лицами. Возле дверей два раба, мерно раскачиваясь, месили ногами валяльную глину, и глина верещала у них между пальцами… Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!
И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?
Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.
Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.
Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.
Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкого и гнилого оврага. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.
Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.