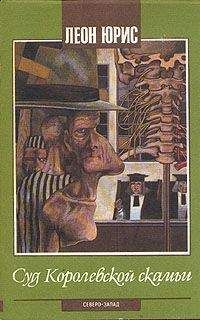Рэй Брэдбери - Чикагская бездна
— Я говорил про апельсины и лимоны, конфеты, сигареты. Я было вспомнил все надувные игрушки, вересковые трубки, палочки для чесания спины, когда он спустил на меня собак.
— А я его почти что и не виню. Меня и самого подмывало задать вам трепку. Давайте, давайте-ка поживее. Вон уже и сирена, быстрее!
И они торопливо ушли в другую сторону, к выходу из парка.
Он пил домашнее вино, потому что это было легче. Еда должна подождать, пока голод возьмет верх над болью в разбитой губе. Он прихлебывал и кивал головой.
— Хорошо, большое спасибо, хорошо.
Незнакомец, который поспешна увел его из парка, сидел напротив него за легким кухонным столиком, а жена незнакомца ставила на замызганную скатерть разбитые и склеенные тарелки.
— Эта драка, — наконец произнес муж. — Как это произошло?
От этих слов жена почти выронила тарелку.
— Успокойся, — сказал муж. — За нами не следили. Продолжайте, старик, расскажите-ка, отчего это вы будто святой, только что снятый с креста? Знаете, а ведь вы знаменитость. Все о вас слышали. Многим хотелось бы встретиться с вами. Я сам первый, я хочу знать, какая сила толкает вас. Итак?
Но старик был весь поглощен одними овощами на выщербленной тарелке перед ним. Двадцать шесть, нет, двадцать восемь горошин! Он насчитал неслыханное количество! Он нагнулся над невиданными овощами, словно молящийся над святыми четками. Двадцать восемь восхитительных горошин плюс несколько строчек полусырых спагетти гласили, что сегодняшний бизнес был недурен. Но проглядывавшие из-под прядей макарон трещины на поверхности тарелки свидетельствовали, что все эти годы бизнес был просто никуда. Старик навис над тарелкой, считая и пересчитывая, подобно огромной и непонятной птице, с лету шлепнувшейся, чтобы перевести дух в этой промозглой квартире, и наконец сказал наблюдавшему за ним самаритянину:
— Эти двадцать восемь горошин напомнили мне кино, которое я видел в детстве. Комик — знаете это слово? — смешной человек из этого фильма, встретил сумасшедшего в ночном заведении…
Муж с женой негромко рассмеялись.
— Нет, это еще не шутка, простите, — извинился старик. — Сумасшедший посадил комика за пустой стол, никаких ножей, никаких вилок, никакой еды. И крикнул: «Обед подан!» Боясь, что он его убьет, комик решил подыграть. «Превосходно!» — воскликнул он, прикидываясь, будто жует бифштекс, овощи, десерт. Он откусывал пустоту. «Отлично», — и глотал воздух. «Удивительно!» Э… теперь можете смеяться.
Но муж с женой, притихнув, лишь смотрели на небогатый набор разбросанных по столу тарелок.
Старик потряс головой и продолжал:
— Комику захотелось ублажить сумасшедшего, и он произнес: «Ну что за сочные персики! Отличные!» «Персики? — взвизгнул сумасшедший и вытащил пистолет. — Я не подавал персиков! Ты, наверное, ненормальный!» И выстрелил комику в спину!
В воцарившейся затем тишине старик подцепил первую горошину и взвесил чарующую массу на погнутой жестяной вилке. Он уже было отправил ее в рот, как…
В дверь требовательно постучали.
— Спецполиция! — донеслось из-за двери.
Ни слова не говоря, дрожащая, трясущаяся жена убрала лишнюю тарелку.
Муж спокойно встал и подвел старика к стене, в которой со скрипом сдвинулась панель, он вошел внутрь, панель со скрипом встала на место, и его поглотила темнота, когда по ту сторону стены, невидимая для него, открылась дверь в квартиру. Возбужденно забормотали голоса. Старик представил себе спецполицейского в темно-синей форме, с пистолетом в руке, который входил, чтобы узреть только жалкую мебель, голые стены, липнувший к ногам линолеум, забитые картоном окна без стекол, тот эфемерный засаленный налет цивилизации, который остался на пустынном берегу после накатившегося штормового прилива войны.
— Я ищу старика, — властно произнес за стеной утомленный голос.
Странно, подумал старик, сейчас даже слуги закона выбиваются из сил.
— Весь в заплатах…
Ну, подумал старик, по-моему, у всех одежда в заплатах!
— Грязный. Лет около восьмидесяти…
«Но разве не все грязные, не все состарились?» — сам себе заметил старик.
— Выдайте его, и получите вознаграждение, недельный паек, — сказал полицейский голос. — Плюс десять банок овощей, пять банок супа, в виде премии.
Настоящие жестяные банки с яркими типографскими этикетками, подумал старик. Банки, как огненные метеоры, проносились в темноте над его веками. Вот это вознаграждение! Не десять тысяч долларов, не двадцать тысяч долларов, нет-нет, а пять сказочных банок не заменителя, а самого настоящего супа и десять, сосчитай, десять блестящих, как в красочном цирке, банок экзотических овощей, вроде горошка в стручках и солнечно-желтой кукурузы! Подумать только. Подумать!
Последовала длинная пауза, за время которой старику почудилось, что он слышит, как неясно скулит его неспокойно ворочающийся желудок, сейчас погруженный в дрему, но упивающийся видением обедов повкуснее комочков кошмара старых иллюзий и политики, прокисшей в затянувшихся после ДУ, Дня уничтожения, сумерках.
— Суп… овощи, — в последний раз повторил полицейский голос. — Целых пятнадцать полновесных банок.
Дверь хлопнула.
Башмаки протопали через многоквартирный дом-развалюху, и тут же, словно крышки гробов, застучали двери, пробуждая в живых еще душах Лазаря громкие стенания по красочным банкам и настоящим супам. Тяжелые шаги удалились. В последний раз со стуком захлопнулась дверь.
Наконец потайная панель заскрипела и отворилась. Муж с женой не глядели в его сторону, когда он выходил. Он знал почему, и ему хотелось притронуться к их локтям.
— Даже у меня, — чуть слышно промолвил он, — даже у меня самого появилось искушение выдать себя за вознаграждение, поесть супа.
Они все еще не глядели на него.
— Почему? — спросил он. — Почему вы меня не выдали? Почему?
Муж, словно ему внезапно что-то пришло в голову, кивнул жене. Она подошла к двери, запнулась, муж нетерпеливо кивнул еще раз, и она бесшумно, как комочек паутины, исчезла за дверью. Они слышали, как она прошелестела по длинному коридору, тихонько поскребывая в двери, они открывались, и оттуда доносились вздохи и приглушенное бормотание.
— Что это она? Что вы задумали? — поинтересовался старик.
— Узнаете. Присядьте-ка. Доешьте, — сказал муж. — Расскажите мне, почему вы такой дурак и почему делаете из нас дураков, которые ищут вас повсюду и притаскивают сюда.
— Почему я такой дурак? — старик сел. Старик жевал медленно и горошины, которые ему вернули, брал по одной. — Да, я дурак. С чего же началось мое дурачество? Много лет назад я взглянул на мир в развалинах, диктатуры, опустошенные государства и страны и сказал: «Что я могу сделать? Я, старый, слабый человек, ну что? Восстановить разрушенное? Ха!» Но однажды ночью я лежал в полусне на кровати и услышал в голове старую патефонную пластинку. Две сестрички по имени Дункан пели песенку моего детства, называлась «Воспоминание». «Воспоминания — вот все, чем я живу, ну что ж, попробуй ими жить и ты». Я спел песенку, но это была не песенка, это был образ жизни. Что есть у меня такого, что можно отдать людям, которые забывают? Память! Но как это поможет? Это будет модель для сравнения. Рассказывать молодым, что было когда-то, рассуждать о том, что утрачено. Оказалось, чем больше я вспоминаю, тем больше могу вспомнить! В зависимости от того, с кем сижу, я вспоминал искусственные цветы, дисковые телефоны, холодильники, казу (а вы когда-нибудь играли в казу?), наперстки, велосипедные зажимы, не велосипеды, нет, а велосипедные зажимы для брюк. Ну разве это не нелепо, не странно? Антимаскара. Вы знаете, что это такое? Ну, да ничего. Один человек попросил меня вспомнить приборы на Торпедо «Кадиллака». Я все вспомнил. Рассказал до мельчайшей детали. Он слушал. И по лицу у него катились крупные слезы. Слезы счастья или печали? Сказать не могу. Я только вспоминаю. Не литература, нет, моя голова не для пьес и стихов, они стираются, они умирают. Что до меня, так я просто вместилище для хлама, так, посредственность, третьесортный хранитель никчемных вещей, хромированных отбросов и утиля, оставшихся от увлекшейся скачками цивилизации, которая не смогла остановиться перед пропастью. Так что все, что я предлагаю, на самом деле сверкающий мусор, хронометры, по которым все помирали, нелепые механизмы из нескончаемого потока роботов и одержимых роботами хозяев. И все равно так или иначе, но цивилизация должна вернуться на свою стезю. Те, кто могут предложить изысканную салонную поэзию, пусть вспоминают, пусть предлагают. Те, кто могут ткать и мастерить сачки для бабочек, пусть ткут, пусть мастерят. Мой дар куда скромнее и того, и другого и вообще, наверное, ничтожен с точки зрения длинного подъема, восхождения, скачка к нашей старой, милой и глупой вершине. Но я-то должен видеть себя нужным. Потому что вещи, глупые или нет, если о них помнят, — это вещи, которые будут снова искать. Что же, я буду бередить их еле дышащие желания растравляющими укусами памяти. И, может статься, они снова соберут по винтику те Великие часы, что и есть и город, и государство, а там и весь мир. Пусть одному хочется вина, другому мягких кресел, а третьему планера с крыльями, как у летучей мыши, чтобы парить на мартовских ветрах и строить еще больших электроптеродактилей, чтобы носиться в поисках еще более могучих ветров и брать с собой еще больше народу. Кому-то хочется идиотских новогодних елок, а какой-то мудрый человек собирается их рубить. Сложите все это вместе, колесиком к желанию, желание к колесику, и я тут как тут — смазать их, но ведь я их и так смазываю. Хе, в свое время я бы вопил: «Только лучшее — лучшее, только качество — настоящее!» Но розы вырастают на кровавом навозе. Посредственности нужны, чтобы могло расцветать превосходное. Ну что же, я буду самой лучшей посредственностью изо всех и буду драться со всеми, кто говорит: лезь под лавку, подай назад, сотрись в порошок, и пусть кусты шумят над твоею живой могилой. Я буду против превращения людей в бродячие орды человекообезьян, овцечеловеков, жующих у краешка тучных лугов, на которых наслаждаются феодальные помещики-волки, те, что прячутся на верхних этажах оставшихся небоскребов и по уши завалились едой, про которую народ уже позабыл. Этих мерзавцев я буду убивать консервным ножиком и штопором. Я буду давить их призраками «бьюика», «киссель-кара» и «муна», я буду пороть их лакричным кнутом, пока они не взмолятся о пощаде. Могу ли я сделать все это? Можно только попробовать.