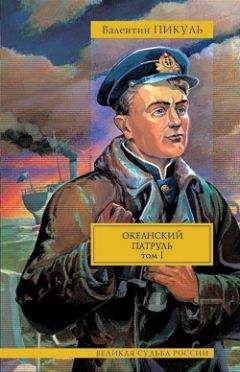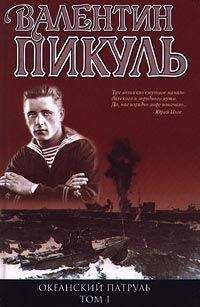Федор Чешко - На берегах тумана
Даром... Вот именно — даром. Толку-то от Незнающего в хозяйстве чуть, всякому ведомо, а хлопоты с ним немалые. И выкормить надо, и выучить его, орясину великовозрастную, всему же выучить надо: говорить, Бездонной бояться, старших уважать — всему-всему, чему детишек от рождения учат и чего этот вот не знает. Не знает, будто только-только на свет народился, хоть лет ему уже... А и правда, сколько ему? Двенадцать? Четырнадцать? Прочие-то Незнающие, что другим доставались, вроде как старше бывали. Или этот просто послабее других?
Да, слабый он, бледный, стоит-качается... И Леф, если бы до его лет дожил, таким же был бы, всякая хворь к нему сызмальства так и липла, пока и вовсе не извела. А ведь он, этот, и впрямь на Лефа похож. Такой же беленький, зеленоглазый, и жилка у него на виске бьется голубенькая — точь-в-точь как у Лефа.
В лице Незнающего вдруг дрогнуло что-то, словно мысль какая-то мелькнула в тусклых бездумных глазах его, и дернулись-шевельнулись синеватые губы:
— Ма... ма...
Раха зашмыгала носом, утерлась ладонью:
— Пойдем уж в хижину, горе мое. Пойдем... Леф.
Она осторожно, будто опасаясь раздавить, взяла мальчонку за тонкое костлявое плечо, ужаснувшись про себя, какое оно слабое и холодное; провела его вдоль плетня, помогла взобраться на перелаз...
И вдруг для самой себя неожиданно крепко притиснула к себе вздрагивающее грязное тельце, зарылась лицом в жидковатые всклокоченные вихры. Всхлипывая, она думала, что Хон, наверное, обрадуется негаданному сынку и будет ему хорошим отцом. А что заморыш такой достался — это не беда. Хон ведь и сам не очень видный собой мужчина, а среди воинов из первых будет, без малого Витязь.
Зима в этом году случилась как-то вдруг и надолго. В горах выпало много снега — такое помнили только самые старые из стариков. А еще старики помнили, что это очень плохо — большие снега в горах, что из-за такого в долины приползают холодные злые туманы; приползают и приносят с собой тяжкие хвори, от которых люди дышат со свистом, а потом кашляют кровью; а запасенные с осени дрова кончаются задолго до середины зимы, и в хижинах заводится промозглая сырость, убивающая детей.
Все вышло так, как помнили старые. Туманы спустились с гор, и дни напролет струйчато и зыбко текли-оплывали, топили в себе дворы, огороды, дорогу, людей — все. А ночами с ужасающей высоты бесстрастно и ровно сияли несметные звезды, и земля обретала твердость камня и звонкость бронзы. С коротким треском лопались затягивающие окна рыбьи кожи, и в хижины вламывался мороз. Казалось: время застыло, ничто уже не изменится. Казалось: зима будет всегда.
Раха часто плакала по ночам. Слабые отсветы тлеющего очага скупо высвечивали ее влажное запрокинутое лицо, жидкими бликами дробились в глазах, а она, вжимаясь упругим боком в костлявую спину лежащего рядом Хона (это чтобы обоим стало хоть немного теплее), бормотала копящемуся под низкой кровлей мраку жалкие и бессвязные причитания. О том, что холодно, что огород мал и родит скудно, что у Рахи на все не хватает сил, что Хон из-за глупого великодушия мало берет за работу и поэтому на зиму запасли совсем немного, а в хижине лишний рот, который из-за глупости Хона не доживет до весны...
Хон не спорил с ней, не сердился на однообразные несправедливые упреки. Что поделаешь с бабой, если она устала, если боится вновь потерять ребенка? Пусть ругает, пусть отводит душу. Поплачет — успокоится, крепче заснет. Он ведь прекрасно знал, что роптания Рахи будут недолгими. Когда она войдет в раж от жалости к себе и досады на мужское равнодушие, когда шепот ее окрепнет и начнет срываться на злобные взвизги, проснется тот, кого они не сговариваясь стали звать Лефом, и его хныканье мгновенно заставит Раху забыть обо всем, кроме одного: успокоить и приласкать.
Так они и жили. Короткие скучные дни сменялись тягучими тоскливыми ночами, и каждый следующий день был похож на предыдущий, а каждая ночь — на предыдущую ночь.
Скука ушла из их жизни, когда зима перевалила за середину. Ушла потому, что к этому времени Леф узнал уже достаточно слов и стал спрашивать.
— Мама, холодно... Почему?
— Что — «почему»?
— Почему холодно?
— Потому что зима.
— А почему зима?
— Ну как это — почему зима? Да потому, что всегда так бывает: после осени зима настает. Значит, уж так назначено.
Некоторое время слышится только сосредоточенное сопение — думает. Потом опять:
— А осень — это как?
— Да почем же я знаю, горе ты мое? Осень — осень и есть. Дожди идут, огород родит хуже, холодно...
— Как зимой?
— Ну нет. Зимой куда как холоднее.
— А осень уже скоро будет?
— Нет. Сперва будет весна, потом лето, а уж потом — потом...
— А почему?
— Да ты хоть на миг замолчишь сегодня или нет?! Вот ведь пристал колючкой к подолу! Бешеного на тебя нет, успокоить некому... Ой, прости, прости, Бездонная, не дай накликать мальчонке...
— А что такое «накликать»? А Бездонная — это кто?
— Мал еще. Не поймешь.
— А почему «не дай»? Пусть даст, может, это вкусно?
— Да отстань ты! Занята я сейчас, не видишь, что ли? Вон лучше иди к отцу приставай. Хон! Хо-о-он! Бросай дурью тешиться с деревяшкой своей, займи ребятенка!
Резец был бронзовый, старинной работы. Он входил в дерево легко и плавно, не обламывая щепу, как нынешние; стружка эта вилась за отточенным лезвием невесомой упругой лентой, радуя сердце добрым смолистым духом. Подумать только, что за такую драгоценность бродячий меняла запросил всего-навсего две брюквы да горшок патоки. Вот ведь бестолочь (прости, Бездонная, за грубое слово), цены товару не знает!
Впрочем, Раха считает бестолочью не менялу, а Хона: «Две брюквищи и целый горшок патоки в конце зимы за пустяковину отдал! Не голова у тебя — подставка для лысины!» Патоки ей жалко... А Хону разве не жалко было бритвы, от отца доставшейся, которую Раха, не спросясь, отдала тому же меняле за семена какой-то редкостной съедобной травы? Теперь столяру приходится выскребать щетину с лица обломком дрянного ножа, но Рахе и дела нет до его мучений. Баба, что с нее взять...
Никогда еще Хону не работалось так хорошо. Крепкое, выдержанное дерево не сопротивлялось чудесному инструменту, и руки будто сами собой совершали привычное им дело, освобождая голову для несуетных мыслей.
Мыслям этим никто не мешал. Раху зазвала к себе соседка Мыца, женщина Торка-охотника, зазвала для какого-то пустяка. Значит, до темноты Раху домой ждать не стоит. И Леф тоже не пристает, и не видно его, и не слышно. Занятие себе нашел: роется в старом столярном хламе, выкинуть который Хон Рахе не позволяет, а перебрать руки не доходят. Ничего, пусть мальчишка забавляется: глядишь, и приохотится к ремеслу.