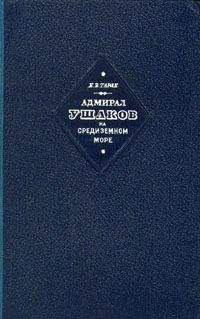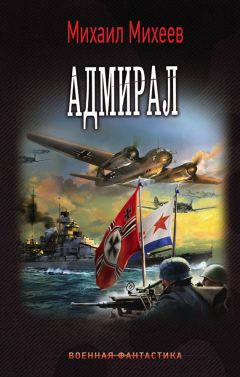Сергей Казменко - Китеж. Сборник фантастики
— Мы чуть не сдохли там, все пятеро! Мужики стоят синие, морды у всех — одуревшие, а по конструкции этой прям волны такие ходят, прям волны, честное слово! — Семенов показал руками волны.
— И вся она, ты понял, светится!
И, вдруг, опомнившись и устыдившись своего крика, он осел, утихомирился:
— Может, конечно, это мне все почудилось, со страху, а только стихло все, и вот, понимаешь, — как рассказать, не знаю… плывет все, и как-то видно-то все не так! Не так!.. Мне аж глаза выворачивать стало! Самого себя вижу, ты понял! Ну, думаю — живой, но контузия… Однако ж стою — жду, будь что будет, должно же кончиться! Но — не проходит. Так вот и выворачивает глаза-то… То есть, ты понял, это гадское электричество припаяло нас там друг к дружке, всех пятерых! Качает, понял, не могу рукой двинуть, чувствую себя как осьминог — одни сплошные руки! Жуть кошмарная — десять рук сразу ощущаю да еще десять ног — умереть проще, ты ж пойми!.. Ага… Федька Бурлак, твой-то, оказалось, перед пивом — коз-зел — портвейна принял! Хочу ему сказать: “Шо ж ты делаешь, враг народа?! Кто же тебя, контра, так учил?!” — а он на меня смотрит, глаза квадратные, и дуреет, и нам все-все с ним понятно, и печально даже как-то. Глядим сами на себя, не прочухаться нам никак, и в мозгах так вот: дерг… дерг… дерг… Сколько мы стояли, я тебе даже не скажу, но потом, ты понял, обвыклись, шевелиться стали… Ага, обвыклись… нормально так…
Рыжий Семенов издал смешок и покачал недоверчиво головой, даже плечом дернул в возбуждении.
— Баба только эта, в ларьке мечется, голосит, руками плещет, дура… оглушило ее, наверно. А мы стоим как чурки, и Федькин портвейн во все наши мозги помалу просачивается. Но соображаем чего-то там тихонько. Э-э-э… Тебе не представить все равно! Я сам теперь ни хрена вспомнить не могу, ломаю башку, прям вот так… И не получается. Уходит все… — Семенов уныло опустил голову. — Уходит, забываю, ядрен корень!..
Однако тут же он встрепенулся, выпучился:
— Чувствуешь себя — как не знаю кто. Так много в тебе всего двигается! И чудно так! И смотришь, ты понял, в десять глаз! Это ж и сказать нельзя, как это… это ж… Слов таких нету!.. Вокруг прям все… во все стороны…
Его ручищи летали у моих глаз, как я тогда цел остался — удивляюсь. Он мог бы прихлопнуть меня и вряд ли заметил бы это. Восторженная душа рыжего Семенова рвалась наружу и не находила себе выхода, не хватало душе его слов и жестов. Могу представить себе, что творилось в этой душе тогда, у пивного ларька под дождем, когда вместо привычно-однообразного окружения многомерное и неведомое, пугая и причиняя боль, вдруг предстало перед его нетрезвым взором.
Семенов взмахивал, плевался и свистел, его понесло:
— Да… не понять тебе… Ты не обижайся! Не обиделся? Ну вот… — Он откинулся широко на скамейку и одичало глянул перед собой. — Думали-то мы вместе! Это как тебе? Ты вот представь — захотел ты шаг сделать, и вдруг подлетаешь метров на двадцать! Еще один захотел — улетаешь на другую улицу! Ты понял, в жизни я так никогда не думал, и никто так не думал! И не так, как у нас-то с тобой, сейчас-то, с перерывами там, с провалами, с мертвыми зонами. Ну как там в журнале пишут — “пунктир сознания”. Не-ет. Там сплошняком шло, успевай подхватывать, круговой обзор и бешеная непрерывность.
Я ведь первый из них проморгался, они еще стоят, варежку открымши, а я уже осознался… Я вообще из них самый крепкий был… Я думаю, то есть — думаю, но как будто им говорю тоже: “Мужики, — говорю, — е-мое! Не спугните только, тицкая сила. Христом-богом молю! Самолично придушу каждого!” Ха-а!.. — Семенов вытянул ноги, возбужденно потянулся.
— Но сначала, конечно, чепуха была, разноголосица. Оклемались они и как пошли все в разнобой словами сыпать! И слова, и впечатления какие-то, и мысли картинками, но, ты понял, вдруг одно слово вместе сказали, и как по рельсу кувалдой — БАМ-М! Оглушило! Потом еще, еще, мозги работать стали — общие идеи искать, ты понял! Общая идея — звучала, она прям оглушала! Мы прям, ты понял, одним человеком становились — здоровое, громадное даже лицо появлялось вместо пяти наших харь. Только — отвернувшись от нас, не разглядеть мне было это лицо, не представить. И вот — пошло, пошло — что ни шаг — километр, что ни другой — улица! И вдруг думаем: “Стоп!” По домам надо разбежаться, пока нас тут не повязали, как психов, дяди из дурдома. Боялись, правда, что разойдемся и кончится эта лафа. Но зря боялись. Правда, когда расходиться стали — опять, ты понял, глаза навыворот полезли! Пространство наше расширяться стало! Когда один, и представить невозможно, какое оно здоровое — пространство-то! Ого!.. Ну ладно. Одним словом, дошли мы до своих домов, все пять дошли нормально. Мокрые, конечно. Дождь ведь пошел, ты понял! Федька Бурлак быстрей всех домой попал — подвезли его. И вот ему бы, то есть нам бы, в уголочек какой ни то тихий приноровиться, да отдышаться, а у него — Раиса евойная, ты понял, как волкодав ноздрями трепещет… и понесла, и понесла, и руками уже примахивается — ладит звездануть Федьку промеж рогов… то есть нас всех сразу звездануть — мы же вместе! Он у нее за картошкой был посланный, нехристь. Ты понял! И вдруг видим — вытянуло Раису, и поползла она в угол без памяти! С чего бы, думаем, такое чудо? Однако, думаем, везет же тебе, Федька, дураку! Потом поняли, пожалели даже Райку-то… Ну сам рассуди — является твой забулдон и не бормочет, как всегда, про темный лес с перематами, а садится скромненько за стол, вилочкой постукивает и по-профессорски эдак, как артист Тихонов, смотрит те в душу, забодай ее, вроде б как с укоризной! А-а-а? Сомлеешь…
Семенов снова копошил пальцем в пачке “Беломора”, докапывался до очередной согнутой и потрошеной папироски. Он ссутулился и насупился теперь. Видимо, устал, видимо, история эта выматывала его и посейчас. Я не знаю, кто из них пятерых первый почувствовал физическое отвращение. Как мне показалось из дальнейшего рассказа рыжего Семенова, первым был исполкомовский Орлов. Этот Орлов так и остался у них на отшибе, так и не соединился с ними по-настоящему то ли из-за жены, то ли по другой причине; он послушно включался в общий ход мыслей, добросовестно думал и представлял, но всегда какое-то темное пятнышко оставалось в его мозгу, душу свою он всегда аккуратно и незаметно запихивал в черную эту дыру — нет, не из-за жены все-таки жалел, видимо, свою душу, упорно и вежливо сберегал для себя. Ему-то и ударила, первому из всех, в нос физиология и внутренности других, доселе неведомых ему людей.
Моему соседу Федору, безусловно, было плевать на кишки и болячки всех пятерых вместе взятых. Его подкосило, его буквально сшибло с ног то, что коллективный разум на дух не переносил спиртного, и Федорову жажду отвергал как нечто несущественное и нелепое. Сосед Федор не понимал, мучился, могучая воля рыжего Семенова швыряла его дряблый мозг в непривычную, изнурительную деятельность — и сосед Федор барахтался, удивлялся и слабел без портвейна, без Райкиных оплеух и ругани. А Райка испуганно выла, сидя квашней на кровати, уговаривала его лечиться и наливала ласково коричневой бормотухи, слабо надеясь на выздоровление мужа.