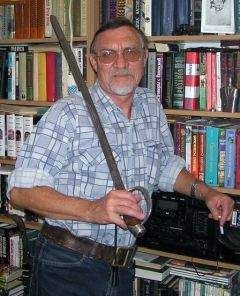Василий Звягинцев - Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль»
В «приёмном покое» его даже обыскивать не стали. Чего ради? Вешаться или вены вскрывать захочешь – дело хозяйское. Без тебя здесь жили и дальше проживут. Чего-то, пригодного для рытья подкопа сквозь полутораметровые стены фундамента, в кармане не пронесешь. Это только в романе Хмелевской героиня творит чудеса с помощью заколок и роет тоннель пилочкой для ногтей. И вообще новичок пока что не осужденный, не подследственный и не административно-арестованный, а так. Постоялец.
Корпусной[41] выдал ему тонкий, но почти новый матрас, набитый ватой, две серые простыни, тоже ватную подушку размером чуть больше среднестатистической головы в профиль, синее колючее одеяло с жёлтой надписью «ноги» с одного края. Забота, однако, а также указание на то, что предшественники могли, в большинстве своём, ложиться под это одеяло без простыни, с неизвестно когда мытыми ногами.
Впрочем, когда, кривясь от брезгливости, Михаил спросил: «А насекомых у вас тут нет?» – надзиратель глянул на него коротко и недобро:
– У нас – нет. А у тебя – сейчас проверим.
И Воловича отправили в так называемый «санпропускник», где фельдшер предпенсионного возраста с тремя кубиками в петлицах велел ему раздеться догола, грубо, но быстро и сноровисто, как цыган лошадь на базаре, осмотрел, и в рот заглянул, и в другие места. Ткнул пальцем в свисающий волосатый живот.
– Так и запишем – «зеркальная болезнь». Нуждается в казённой диете. Семён, – без паузы крикнул фельдшер, и на пороге возник парень явно из заключённых, судя по манерам – не исполняющий наряд, а пристроившийся здесь на постоянную должность.
– Как обычно. Постричь, побрить, если что – политанью[42] смазать. Мыла ему дегтярного плесни и ветошь кинь какую-нито. А ты, слышь, – повернулся он к Воловичу, – на волю передай, чтоб мыла хорошего прислали, мочалку, полотенце. А то у нас здесь не Сандуновские бани с пивом и девочками… Из собачки мыло-то у нас, дохлой причём.
Захохотал собственной шутке и тут же потерял к пациенту всякий интерес. Не стесняясь, полез в медицинский шкаф в углу, нацедил в мензурку прозрачной, характерно пахнущей жидкости.
– Это не тебе, – уловил он взгляд Михаила. – Ты своё надолго отпил, если, упаси бог, не навсегда…
Теперь журналист, выбритый «везде», распространяя вокруг себя действительно жутковатый аромат грязно-серого мыла и напоминающей об аде и всём ему сопутствующем лечебной мази, сидел на узкой шконке, опершись локтями о железный, покрытый жёлтым линолеумом столик под полукруглым окном у самого потолка. Через частую решётку были видны край асфальтированного приямка, краснокирпичная стена и узкая, ровно в ладонь, полоска голубого неба над краем крыши. Да и то, чтобы увидеть эту полоску, надо было присесть и сильно вывернуть вбок шею.
Сама же камера была размером чуть-чуть больше вагонного купе. Как раз настолько, чтобы на цементном возвышении поместилась «чаша Генуя»[43], сильно пахнущая хлоркой, и медный водопроводный кран над полукруглой раковиной с обколотой эмалью.
Михаил тихо плакал, вспоминая об унижениях, пережитых в течение этого, так хорошо начавшегося дня, и думая о том, что ждёт его впереди. Вдруг да и придётся сдохнуть здесь, то ли завтра, то ли через много-много лет, и никакой аббат Фариа не придёт скрасить его одиночество.
Слёзы текли по пока ещё полным и гладким щекам, попадали на губы, он чувствовал их вкус, но не вытирал глаз. Со слезами, говорят, горе быстрее уходит.
Действительно, минут через десять жизнь ощутимо повернулась к лучшему. Брякнула дверца «кормушки», и в камеру заглянул надзиратель.
– Фамилия? – заученно спросил он, хотя только что сам записывал Михаила в толстую амбарную книгу химическим карандашом.
Волович назвался.
– Инициалы полностью. И вставать надо, деревня, когда к тебе обращаются. Ну ничего, научишься ещё. На шконке днём сидеть можно, лежать нельзя. Тоже запомни. Передать тебе велено… – Он протянул в окошко коробку папирос, такую же, как лежала на столе у Агранова, и коробок спичек, непривычно большой, не картонный, а из тонкого шпона. С красной надписью «Доброфлот» и изображением кособокого биплана. И спички в нём были втрое толще обычных, с крупными красными головками. Терка на боках коробка похожа на наждак. Видать, фосфорный состав требует куда больше энергии для воспламенения, чем почти веком спустя…
– Слышь ты, Волович, – как-то понизив голос, сказал надзиратель, – дай папироску попробовать. Дорогущая, нам на такие не разориться. Только ты смотри молчи, что я просил. Сам угостил, и всё. А за мной не заржавеет, не боись. На прогулку пойдём, я на часы особо смотреть не стану…
«И здесь коррупция», – привычным штампом подумал Михаил и тут же сообразил, что вещь-то эта в его положении очень даже неплохая. «Коррупция» в смысле. Я тебе – дарёную папироску, ты мне – лишние полчаса прогулки. А если б строго по правилам всё – кому от этого лучше?
Корпусной удалился, чтобы покурить «господскую» папиросу сидя, со всей неторопливостью. Десять лет «пролетарской» власти для него ничего не значили. Как были «чёрная кость» и «господа», так и остались. Кто-то из первых превратился во вторых и наоборот, иные остались при своих. Видел он бывших жандармских ротмистров с нынешними «шпалами» и ромбиками. А он, надзиратель с двадцатилетним стажем, как сторожил, кого пришлют «сверху», так и сторожит. И его уж точно с сидельцем хоть из восемнадцатой, хоть из любой другой камеры местами не поменяют.
Следующий раз, когда толстяку «настоящую» передачу принесут, нужно будет намекнуть, чтоб целой коробкой поделился. Хороши папироски, в меру крепки и духовиты.
Выкурив две папиросы подряд и слегка успокоившись, Волович начал размышлять конструктивнее. Что случилось – случилось, теперь надо в этой жизни устраиваться. Даже и в тюрьме одни живут хорошо, другие так себе, третьи – совсем плохо. И Шаламова он читал, и Солженицына. Других – тоже. Правда, те о лагерях писали, а здесь – следственная тюрьма. «Внутрянка». Особо не развернёшься. Хотя, слышал он и такое, – специальных соседей в чужие камеры подсаживают. Когда из заключённых «стукачей», когда «сотрудников». Или просто послушать, о чём люди говорят, или на психику в интересах следствия повлиять. Выгоду и здесь получить можно. Правда – и это он тоже слышал – убивают иногда таких «наседок», так совсем дурных, наверное. Кто его здесь, с такой внешностью и такими манерами, за банального стукача примет?
Но это – предложить должны. Самому напрашиваться – заведомо продешевить.
Тут же мысль соскользнула на параллельную тему. «Продешевить» – это из области товарно-денежных отношений. А как тут вообще с этим? Кроме одной-единственной двадцатидолларовой бумажки из «параллельного мира», у него не было совсем ничего. Ни часов золотых (их теперь Агранов, наверное, носит), ни обручального кольца. Если даже на волю выйдешь – двадцать долларов не деньги, новую жизнь с ними не начнешь…
И вдруг Михаила как кувалдой по голове стукнуло! Какие двадцать долларов, о чём он?
Те, что он на Столешниковом утащил и Лютенсу показывал, – да, из «другого мира»! Но – этого ли? Там уже двадцать первый век идёт. И история двадцатого какая-то другая. Насколько он успел узнать, никаких «двух Россий» и красного диктатора Троцкого в мире Вяземской и её подруг не было. Император был. Олег Первый. А здесь – наша «настоящая» история, персоны всё известные, просто небольшая развилочка на исходе Гражданской войны образовалась. Так с какого же… здесь та бумажка из «будущего» деньгами окажется?
Волович, торопливо докурив и бросив окурок на пол (пепельницы ведь не дали), снял туфлю, извлёк из-под стельки вчетверо свёрнутую купюру. Развернул, просто так уже, для очистки совести.
Стоп! Это что такое? Денежка была явно не та. Ту он тщательно рассматривал, и сам, и с Лютенсом. А эта походила на прежнюю только размером. Цвет – серовато-белый. Дизайн – примитивный, можно сказать. Как на коленке делали. Никакого президентского портрета, даже просто картинки какой-нибудь, типа как на евро – нету. На вексель банковский больше всего похоже. Но – номинал тот же – двадцать! И вот написано – «Подлежит размену на золото по цене 0.1 тройская унция за один доллар САСШ». Это ж что получается? Подменили купюру, когда сюда выбрасывали? Позаботились, чтобы был у него капитал, основной и оборотный? Не просто мстили, значит, а операцию внедрения проворачивали? Оч-чень интересно!
А второй вариант? Если в квартире на Столешниковом – выходы в три разные реальности, и в совершенно одинаковых кабинетах стоят одинаковые секретеры, но набитые разными валютами, «имеющими хождение» за пределами этого странного помещения, так, может, при переносе Воловича и деньги под нужную реальность подстроились? Автоматически. Или – магически.