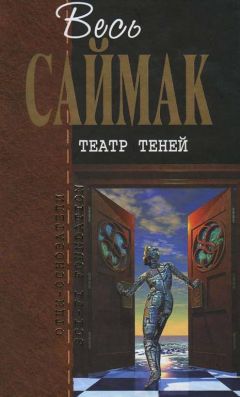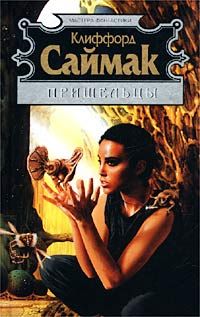Клиффорд Саймак - Театр теней
— Он нежен, как голубка,— заверил его Купер.— Мухи не обидит. Только одно меня и успокаивает: никто не осмелится потревожить нас, пока вокруг бегает это чудовище. Самый лучший сторожевой пес на свете. Надо же кому-то охранять наши запасы. Когда Уэс вернется, мы станем миллионерами. У нас и меха, и женьшень, и слоновая кость.
— Если он действительно вернется.
— Он обязательно вернется. Можешь не волноваться.
— Но прошло уже пять лет,— возразил Хадсон.
— Он вернется. Что-то там случилось, вот и все. Наверное, он уже работает над этим. Он мог сбить регулятор времени, когда чинил модуль, или тот уже был неисправен, после того как Бастер врезался в вертолет. А чтобы исправить дефект, нужно время. Я не сомневаюсь, что он вернется. Я только одного понять не могу: почему он ушел один и оставил нас здесь?
— Я уже объяснял тебе,— сказал Хадсон,— Он боялся, что модуль не заработает.
— Но разве этого надо было бояться? Мы бы ему и слова не сказали.
— Ты прав. Ни слова, ни насмешки.
— Тогда чего же он боялся? — спросил Купер.
Уэс боялся, что, узнав о его новой неудаче, мы бы дали ему понять, какой безнадежной и безумной была его затея. И он знал, что когда-нибудь мы могли бы убедить его в этом, уничтожив последнюю надежду его жизни. А он хотел сохранить ее, Джонни. Он хотел сохранить ее даже тогда, когда надеяться будет не на что.
— Теперь это неважно,— сказал Купер,— Нам надо думать только о том, что он вернется за нами. А я это сердцем чувствую.
Но Хадсон знал, что был и другой вариант, который мог напрочь перечеркнуть весь смысл их существования.
«О господи,— подумал он,— не дай мне стать свидетелем этого!»
— Уэс уже работает над этим — прямо сейчас,— уверенно говорил Купер.
14И он действительно работал. Но не один — ему помогали тысячи других доведенных до отчаяния людей, которые знали, что времени в обрез, и которых тревожила не только судьба двух человек, затерянных во времени, но и угроза войны, нависшая над их страной. Они работали, чтобы обрести мир, о котором мечтали,— тот самый мир, к которому человечество стремилось многие века.
Но для использования машины времени им был нужен нулевой уровень — такой же нулевой уровень, по которому артиллеристы устанавливают батареи орудий,— только тогда каждая машина времени могла бы доставлять пассажиров в один и тот же миг прошлого, только тогда их действие распространялось бы на один и тот же период с точностью до секунды.
И вновь возникла проблема управления и калибровки, из-за которой нулевой модуль был настроен на прыжки через пятьдесят тысяч лет — плюс минус десять тысяч.
Проект «Мастодонт» наконец-то заработал.
КРУГ ЗАМКНУЛСЯ
Полученное письмо словно громом поразило Эмби Уилсона, и он вдруг услышал, как рушится вся его жизнь. Письмо было официальное, его имя и звание выделялись — они были, по-видимому, отпечатаны на свежей машинописной ленте. В письме говорилось следующее:
«Доктору Амброузу Уилсону
Исторический факультет
С сожалением должен уведомить Вас, что Совет попечителей, собравшись сегодня утром, принял решение по окончании семестра закрыть Университет. Это решение вызвано отсутствием средств и катастрофическим сокращением числа студентов. Вы, разумеется, уже осведомлены о сложившейся ситуации, однако…»
Письмо на этом не заканчивалось, но Эмби не стал читать дальше. Он заранее знал, какой набор банальностей содержит оно, и ничего нового не ждал.
Рано или поздно это должно было случиться.
Чудовищные трудности давно донимали попечителей. Университет был практически пуст. А ведь когда-то тут звенела жизнь и пульсировали знания. Теперь он превратился в университет-призрак.
Впрочем, и сам город стал призраком.
«А я сам — разве я не стал призраком?» — подумал Эмби.
И он признался себе — признался в том, о чем и мысли бы не допустил день или даже час назад: вот уже тридцать лет, а то и больше жил он в призрачном, нереальном мире, всеми силами цепляясь за единственно известный ему старый, смутный образ жизни. И чтобы ощущать хоть какую-то почву под ногами, он лишь изредка позволял себе думать о том мире, который простирался за стенами города.
И на то были веские причины, подумал он, веские и основательные. Все, что находилось за городской чертой, не имело никакого отношения к его собственному, здешнему миру. Кочевой народец — абсолютно чуждые ему люди со своей неокультурой, культурой упадка — наполовину из провинциализмов, наполовину из старых народных поверий.
В такой культуре нет места такому человеку, как я, думал он. Здесь, в университете, я поддерживал слабый огонек старых знаний и старых традиций; теперь свет погас, отныне старые знания и старые традиции канут в Лету.
Как историк он не мог согласиться с подобным отношением к этим ценностям: история — истина и поиски истины. Скрывать, приукрашивать или пренебрегать каким бы то ни было событием — пусть даже самым отвратительным — не дело историка.
И вот теперь сама история взяла его в плен и поставила перед выбором: либо идти и оказаться лицом к лицу с тем миром, либо остаться, спрятаться от него. Третьего не дано.
Эмби брезгливо, словно какое-то мертвое существо, приподнял двумя пальцами письмо и долго смотрел сквозь него на солнце. Затем осторожно бросил его в корзинку. Потом, взяв старую фетровую шляпу, напялил ее на голову.
2
Подходя к дому, он увидел на ступеньках своего крыльца какое-то пугало. Заметив приближающегося доктора, пугало подобрало конечности и встало.
— Привет, док,— произнесло оно.
— Добрый вечер, Джейк,— поздоровался Эмби.
— Я совсем уж было собрался на рыбалку,— сообщил Джейк.
Эмби не спеша опустился на ступеньку и покачал головой:
— Только не сегодня, не до этого мне. Университет закрыли.
Джейк сел рядом с ним и уставился в пустоту по ту сторону улицы.
— Мне кажется, док, для вас это не такая уж большая неожиданность.
— Я ждал этого,— согласился Эмби.— Кроме отпрысков пузырей, занятий никто уже не посещает. Все новые ходят в свои университеты, если, конечно, то, куда они ходят, можно так назвать. Сказать по правде, Джейк, представить себе не могу, что за знания могут дать им эти школы.
— Но вы хоть обеспечены, насколько мне известно,— сказал Джейк успокаивающе,— Все эти годы вы работали и, наверно, смогли кое-что отложить. А вот мы всегда перебивались с хлеба на воду, и так оно, видать, и дальше будет.