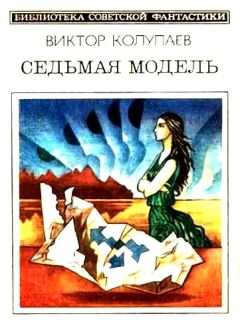Виктор Колупаев - Жилплощадь для фантаста
– Ну что, видел? – спросила Валентина.
– Видел. Повезло людям. Пусть вселяются.
– Конечно, пусть. Да только дом не могли так быстро достроить и сдать комиссии.
– Сейчас подрядный метод на стройках внедряется,
– Да хоть сверхподрядный! Не могло этого произойти.
– Не могло, да произошло. Я-то тут при чем?
– Ты, Федор, не выкручивайся. Куда ты с утра пошел раздетым?
– Куда я хожу по утрам?
– В том-то и дело, что тебя до обеда на работе не было.
– Да там еще и настраивать нечего. Через неделю всерьез начнем.
– Значит, не был?
– Где не был?
– На работе!
– А… на работе. С утра я на работе действительно не был.
– Ох, когда ты только человеком станешь? Где же ты был? Да еще раздетый?
– Ну… в Учреждение ходил… в пальто, впрочем, и шапке…
– И что? Дал тебе Геннадий Михайлович квартиру?
– Да я и не просил.
– Что же тебя туда понесло?
Я не любил говорить про свои литературные дела. Пока пишешь, никому это неинтересно. Да и сыровато получается. Когда еще до кондиции дойдет. Слава богу, Валентина никогда моими писаниями не интересовалась.
– Я же говорил, что пишу повесть про одного… во времени он путешествует. В прошлом, настоящем и будущем…. Вот ночью написал про настоящее. Черновик, конечно, еще… Да и вообще ерунда! Не нравится мне эта глава. Как-то все не так у меня получилось… Писал, писал и вдруг вижу, что он уже в Учреждении… Ну вот и пошел посмотреть, правда это или нет.
– Убедился?
– Кажется, правда! Я его лишь издали видел. Чувствую, что занят. А в само Учреждение я входить не стал. Так… постоял на улице немного. Перерыв у него был. Охладиться выскакивал. Я и домой пошел… На… на работу, то есть.
– Значит, это все его шутки? И с домами, и с ремонтом теплотрассы, и с плавательным бассейном?
– Ну уж подробности мне неизвестны. Тем более про плавательный бассейн. Тут, кажется, никакая фантастика не поможет.
– Ох, Федор… – Валентина все же заметно поуспокоилась. – Напишешь ты что-нибудь на свою шею. Сегодня на кафедре только и разговоров было, что всем квартиры дают. Даже преподавателям и ассистентам политехнического. С ума сойти можно, сколько квартир дали! Три или четыре… А ты, выходит, не просил?
– Нет. Чего еще просить?
– Ладно… Ужинать будем… А те, что сегодня вселяются, они взаправду квартиры получили? Ну, не произойдет так, что это им только приснилось или пошутил кто над ними?
– Нет, уж мой Федор, сын Михайлов, так зло шутить не станет. Он все сто раз обдумывает, прежде чем сделает.
– А Геннадия-то Михайловича, говорят, с должности Главного распорядителя снимают…
– Так уж и снимают! Да кто его снимет? Может, на повышение переводят?.
– А может, и на повышение. Только, говорят, у нас теперь новый Главный распорядитель будет.
– Это не нам решать.
– Знаю, что не нам. Я ведь о том, что слышала… Режь-ка хлеб.
Нарезав хлеб, я расставил три тарелки, солонку, перечницу, разложил вилки, ложки. Обедать в нашей кухоньке вчетвером не представлялось возможным даже в принципе. А Пелагее Матвеевне, восьми пудов весом, сюда и войти-то было трудно. Она ела или в комнате, или после нас. И мне из-за этого всегда было ужасно стыдно, словно я нарочно унижал старуху.
– Иди зови Ольку, – сказал Валентина.
Я шагнул в комнату, остановился у косяка и сначала взглянул, что там делается на экране телевизора. Какой-то ученый рисовал на доске формулы. Теща меня не видела. Вернее, не слышала, так как Олька в это время раз за разом повторяла какое-то трудное место.
– Ты, Оля, так бурчишь или чего-нибудь играешь? – спросила Пелагея Матвеевна.
Это был стандартный вопрос. И задавала его старуха не со зла или желания причинить внучке неприятность. Не понимала она и, наверное, совершенно искренне хотела понять, просто так бурчит на пианино внучка или играет что-нибудь правильное.
Олька хлопнула крышкой пианино и резко встала.
– Да играй, мне-то что, – сказала Пелагея Матвеевна.
Но играть уже было нельзя. Этот вечный эффект «публичности», невозможность уединиться, побыть одному, заняться интересным, любимым делом, зная, что никто не смотрит тебе в спину.
– Оля, пошли есть, – сказал я.
– Сейчас, – через силу ответила дочь, но сначала пошла в ванную умываться. Я знал, что Ольга будет долго плескать в лицо холодной водой, прежде чем выйдет оттуда.
Здесь нужно было вечно сдерживаться. На себя я давно махнул рукой, тещу во внимание не принимал, считал, что Валентина живет в одной квартире все-таки со своей матерью и ей от этого легче, а Ольгу старался всячески ограждать от тягостных эффектов тесноты. Не заходил в комнату, если к дочери являлись подруги; вслух в присутствии Пелагеи Матвеевны просил Ольгу поиграть на пианино, этим как бы беря ответственность на себя; провел динамик от магнитофона в маленькую комнату, чтобы его можно было включать, не мешая бабушке. Какие же все это были мелочи, потуги, самообман. Я чувствовал, чувствовал, как что-то рвалось в душе, подгонял время, надеясь на перемены к лучшему, не верил в них и писал. Писательство стало для меня единственной отдушиной в нормальной на первый взгляд жизни.
– Мама, ты сейчас будешь есть или потом? – спросила Валентина.
– Да потом, ладно уж, – ответила Пелагея Матвеевна.
Я включил у телевизора звук. Хоть и ничего не понимала в этих передачах Пелагея Матвеевна, но звуки человеческого голоса убаюкивали ее, успокаивали. Она всегда любила разговоры. А музыка, эстрадная или симфоническая, раздражала ее.
Эти ужины втроем, когда дверь кухни прикрыта, я любил. Получался какой-то семейный круг, где можно рассказать о своих радостях и неудачах, зная, что все примут близко к сердцу, но никто не будет особенно охать и внешне расстраиваться. Здесь все переходило в какую-то шутку, минуя этап тягостных переживаний. И беды уже не казались такими страшными, а удачи сверхудачами. Одно выражение: «Ну, ты даешь, папаня!» или: «Да брось ты об этом думать, Федор» снимало, хотя и не до конца, нервное напряжение.
– Отец-то опять своими рассказами кашу заварил, – сказала Валентина.
– Влюбил кого-нибудь друг в друга? – спросила дочь.
– Да нет, стареет он. Про любовь пишет все меньше и меньше.
– Ничего я не старею. Просто, кроме любви, в жизни есть еще очень многое.
– А что ты опять натворил, папаня?
– Да ничего особенного, во-первых. А во-вторых, если что и было, то это Федор, сын Михайлов.
– А! – воскликнула Ольга. – Ты говорил, что у нас был какой-то предок. У Юрия Долгорукого или Петра Первого…