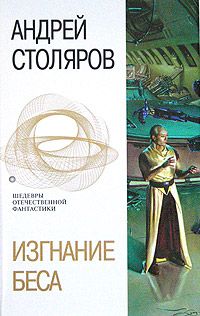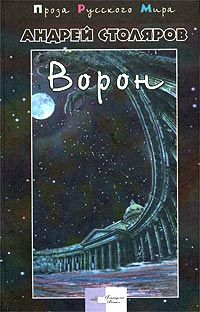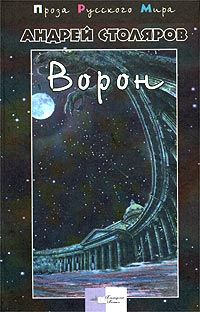Андрей Столяров - Избранный круг
Зато орхидея, когда-то подаренная Георгом, с поразительной стойкостью сохраняла свежесть и очарование. Те же хрупкие, чуть сиреневые лепестки с пурпурными родинками, те же, словно сделанные из яичного порошка, замшевые тычинки. Как живая; Лариса только воду меняла в крохотном пузырьке. А ведь стоит уже больше месяца; что-то невероятное.
Бессмертие орхидеи казалось хорошим предзнаменованием. До Толика ли тут было и до капризов ли свихнувшегося Тимофея? Ларису, как в невесомости, кружило по календарным неделям. Буран медленных дней смывал любые мелочи и заботы. Время освобождалось и вместо крови звенело теперь по всему телу. Счастье имело вкус пыли, солнца и трепетного водяного сияния. Лариса то задыхалась, то наоборот даже не замечала, что дышит. И, если честно, то по-настоящему ее беспокоило лишь – зачем она им? И почему именно с ней, разве нет вокруг других женщин? Она видела, как присматриваются к Георгу на улице или в ресторане или, скажем, на артистическом вернисаже, еще в Сегеже почувствовала готовность Валечки мгновенно перепрыгнуть к нему от Земекиса, угадывала невысказанное согласие девок, как бы случайно усаживающихся поблизости в электричке. Кстати, именно подсиненных до жути, как и предсказывала Серафима. Тугие такие девки, веселые, явно без комплексов. Что Лариса могла бы им реально противопоставить? Комок птичьих костей, как выразилась однажды все та же ядовитая Серафима. Действительно, невысокого роста, щуплая вроде зяблика. Если она выматывалась, то просто не чувствовала у себя никакого тела. Казалось, дунь ветер, и – понесет, будто пушинку, неизвестно куда. Ужасно; неужели не мог найти себе что-нибудь поинтереснее?
Георг, правда, придерживался на этот счет другого мнения.
– В тебе есть жизненность, – сказал он как-то, когда Лариса поведала ему о своих опасениях. – Ты умеешь любить, а это качество – чрезвычайно редкое. Большинство современных женщин любить, к сожалению, не умеют. Они умеют забыться на какое-то время, получить удовольствие от партнера, а изредка даже испытывают, вероятно, настоящее наслаждение, умеют быть счастливы – тоже, кстати, не слишком долго, но любить не себя, а другого, до обморока, не способен почти никто. – Он, едва касаясь губами, поцеловал Ларису сначала в правый, поспешно прикрытый глаз, затем так же, почти не коснувшись, в левый. Губы у него были обжигающие, как изо льда. – Вообще-то ты совершенно напрасно об этом думаешь. Не думай, тебе гораздо важнее не думать, а чувствовать.
– Почему?
– Потому что ты – женщина, – ответил Георг.
Она все ждала, когда после некоторого естественного привыкания, после начальной жажды и, главное, после удовлетворенного самолюбия, что для мужчины, по-видимому, не менее важно, чем все остальное, у него проявится то, что проявляется так или иначе почти у каждого мужика. То есть, сбегай, принеси, поворачивайся, быстренько, иди в ванну, чуть-чуть помолчи, подожди, сколько раз тебе повторять одно и то же. И не то, чтобы трудно ей было бы сбегать, принести или там действительно помолчать, но ведь – приказным тоном, небрежно, не допуская даже мысли о возражении. Ты – его собственность, и он вправе распоряжаться тобой, как захочет. Вот что, между прочим, отвращало ее при каждом прежнем знакомстве. Однако Георг и после того, как их встречи стали привычными, к ее удивлению и даже восторгу нисколько не изменился: те же обязательные сухие цветы в медной вазочке, то же обязательное и точное выполнение всех ее мелких просьб, та же обязательная уступчивость, если их мнения расходились. Речи не могло идти о каком-либо пренебрежении с его стороны. Невозможно было представить, чтобы он брякнул ей, не подумав, что-то невежливое, чтобы был невнимателен или обнаружил хотя бы слабым намеком ее подчиненное положение (в том же, что ее положение подчиненное, Лариса нисколько не сомневалась). Напротив, он стал теперь как будто еще более предупредителен: чуть ли не сиял, если Лариса к нему с чем-нибудь обращалась, готов был слетать для нее сию же минуту, куда угодно, а когда она оказывалась, например, в плохом настроении – Ребиндер опять что-нибудь выкинула или Серафима совсем уж достала своими дикими закидонами – не позволял себе ни единого упрека в ее адрес, хмурости как бы не замечал, старался отвлечь и с бесконечным терпением ждал, когда тучи рассеются.
Ничто, казалось, не предвещало надвигающуюся катастрофу. Какая может быть катастрофа, если умение избегать неприятностей возведено в ранг искусства? Не будет никаких неприятностей, ерунда, не надо выдумывать. И все же какая-то тень иногда проскакивала у нее в сознании. Вспоминались, то Валечка, брошенная в Старом Сегеже, то слюнявый Михай, баюкающий, как ребенка, сломанную Мурзиком руку, то даже парень и девушка, когда-то решительно вышедшие из кафе. И как бы Лариса потом не встряхивалась, будто кошка, стараясь отринуть тревогу, как бы не уверяла сама себя, что все чудесно и лучше у нее еще никогда не было, как бы ни ослепляло ее стремительное проворачивание лета и счастья, послевкусие не исчезало, разъедал сердце почти неуловимый легкий озноб, и на коже появлялись пупырышки, как от дуновения осени.
Тогда она ежилась и передергивала плечами.
И все чаще чудился ей стеклянный, как у насекомых, отлив в глазах Георга.
Она в такие мгновения старалась зажмуриться.
Признаки кризиса начали обнаруживаться еще в июне. Уже при первом знакомстве Земекис показался Ларисе каким-то слегка заторможенным: спросишь его о чем-нибудь – отвечает не сразу, возьмет что-нибудь в руки – и словно бы не понимает, зачем, собственно, это ему понадобилось. Мог просидеть, например, секунд десять, взирая на чайную ложечку. Вздрогнет потом, посмотрит на нее с нескрываемым удивлением и уж только тогда начинает накладывать джем в розетку. Правда, в те дни это еще не очень бросалось в глаза.
А после поездки в Сегеж будто ослабла внутри у него жизненная пружина. Янтарные глаза потускнели, движения стали медленные и плохо скоординированные, пальцы, подрагивая, как у старика, не могли даже взять со стола вилку. Он еще больше усох, и прилипшая к черепу кожа обрисовывала анатомические подробности: артерии, вены, мускулы – как на гипсовом муляже. Смотреть на него было не слишком приятно. Тем более, что Земекис все чаще втыкался в нее невыразительным бессмысленным взглядом и непроизвольно облизывался при этом, как голодный варан. Раздвоенный сузившийся язычок обегал губы. Ларисе в такой ситуации хотелось провалиться сквозь землю. Казалось, что прямо по сердцу переползают с места на место крохотные мурашки.
Причем не только она обратила внимания на эти болезненные изменения. Насколько Лариса могла судить, другие тоже были встревожены. Георг в те минуты, когда рептильное оцепенение только начинало себя проявлять, якобы ненамеренно, но весьма ощутимо подталкивал Земекиса сбоку, просил ему что-нибудь передать, втягивал в малопонятную дискуссию о компьютерах. Вообще теребил, не давая этому странному состоянию развиваться. Темпераментная Марьяна тоже явно пыталась помочь, ухаживала, как могла – то сахара в чай насыплет, то даст ломоть хлеба. Однако, выдержки ей все-таки не доставало, и однажды Лариса даже услышала, как она шипит, кривя губы: