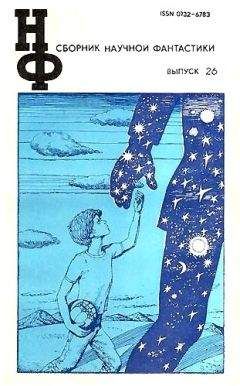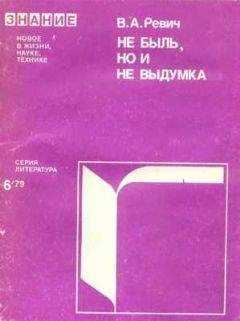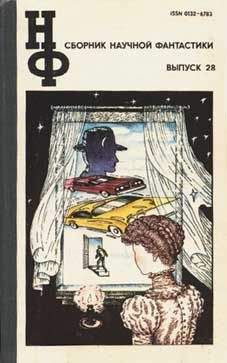Всеволод Ревич - Перекресток утопий (Судьбы фантастики на фоне судеб страны)
Что ж, мученики дўгмата,
Вы тоже жертвы века.
Б.Пастернак
Многие читают книги, ничего не зная и не желая знать об их авторах. Особенно в детстве. Но если мы все-таки что-то знаем, то вокруг прочитанных страниц возникает призрачное облачко, которое необычным цветом окрашивает напечатанные на них слова. Есть книги с особыми судьбами фигура автора, место или обстоятельства, сопутствующие их созданию, могут иметь едва ли не большее значение, чем прямой текст. Мы вольны считать Николая Островского экзальтированным фундаменталистом с изуродованными телом и психикой, но его невозможно обвинить в том, что "Как закалялась сталь" он написал в порядке госзаказа, с желанием угодить, попасть в струю. А читая "Колымские рассказы"Варлама Шаламова, нельзя забыть о том, что ужас концлагерей автор пережил не только в воображении... В последние годы у нас кардинально изменилось отношение к Алексею Толстому. Разбился вдребезги долгие годы воздвигаемый имидж вальяжного старейшины писательского цеха, бывшего графа, поставившего перо на службу трудовому народу, чем, а не только талантом, и снискавшим всеобщую любовь. Вырисовывается иная фигура: уютно устроившийся в экологической нише официального классика приспособленец, который вполне сознательно поддерживал преступления сталинского режима. У аристократа из такой славной фамилии не хватило гражданского мужества просто помолчать. Он усердно доколачивал гвозди, вбитые в руки и ноги уже распятых людей. "Диверсионная организация голода, циничное издевательство над населением, заражение семенных фондов, массовое отравление скота, вредительство в индустрии, в сельском хозяйстве, в горном, в лесном деле, вредительство в науке, в школах, в литературе, в финансах, в товарообороте, травля и убийство честных работников, шпионаж..." - "все это творили холопы нашего смертельного врага - мирового фашизма: троцкие, енукидзе, ягоды, бухарины, рыковы и другие наемники, убийцы, провокаторы и шпионы..." /Из статьи "Справедливый приговор", 1938 г./. Граф старательно популяризировал сталинское учение относительно обострения классовой борьбы при социализме.Он неуклонно требовал высшей меры и письменно свидетельствовал глубокое удовлетворение приведением приговоров в исполнение, не забывая запканчивать почти каждую статью здравицей в честь великого Сталина. Эти выступления литературовед В.Щербина оценил так: "Толстой в своих статьях пропагандировал гуманистическую сущность советского строя". Подхватив эстафету у Горького, Толстой пытается убедить окружающий мир в том, что говорит "правду о счастливой стране, где веселые, смелые люди, не зная заботы о завтрашнем дне, строят крылья, чтобы лететь выше всех в мире". Остервенелый стиль при любом упоминании "врагов народа" был обязательным компонентом советского этикета, что, впрочем, не красит тех, кто им пользовался. Сейчас-то нам срезали катаракту с глаз, подумает кто-то, попробовали бы вы так рассуждать в те времена. С этим трудно спорить. Да, боялись. Я и не требую ни от кого проявлений героизма. Но скромно предполагаю, что лезть из кожи было необязательно. Особенно тем, кто ничем не рисковал. Слабое утешение для Толстого в том, что он был не одинок. "В своем одичании и падении писатели превосходили всех", - свидетельствовала Надежда Мандельштам. В то же время не в чем упрекнуть, например, Пришвина, который доверял подлинные мысли только дневнику, или Паустовского, который, делая вид, что вокруг ничего не замечает, вдохновенно воспевал красоту Мещеры. Истовость служения инквизиторам - вот что убивает.
По разделу материального благоденствия и государственного признания Толстой добился максимума того, что можно пожелать в земной жизни. Однако не стоит забывать, что есть суд потомков /Лермонтов называл его Божьим судом/, и любой писатель должен прикинуть, какая чаша тяжелее, прежде чем продавать душу дьяволу. Но диалектику, хотя и не по Гегелю, мы учили, и есть повод ее припомнить. Одновременно с живодерскими кличами Толстой написал прекрасную, любимую всеми детьми сказку "Золотой ключик", которая велит быть сообразительным, добрым, справедливым и не покоряться карабасам-барабасам, даже когда силы отчаянно неравны. О.Давыдову принадлежит оригинальная гипотеза: будто бы в образной системе "Золотого ключика"зашифровано неприятие автором марксистской идеологии. Папа Карло - это папа Карло Маркс, пищащее полено - пролетариат, а вырезанный из него Буратино - уже пролетариат организованный, так сказать, структурированный, хотя еще несознательный. Мальвина с ее педагогическими замашками олицетворяет собой партийную дисциплину, а лиса Алиса и кот Базилио - сами понимаете - гнусную буржуазию... Пользуясь предложенной методикой, я берусь не менее доказательно разыграть по нотам, предположим, сказки "Терем-теремок" российскую имперскую идею, развалившуюся в наши дни. Подобные, порой забавные интерпретации вовсе не так уж высосаны из пальца, как может показаться. Любая мудрая сказка, как и ее ближайшая родственница фантастика, всегда таит в себе неведомые глубины, о которых порой не догадывается и сам автор. От имени автора можно говорить только тогда, когда он сам подтверждает наши предположения. Чаще же всего художник создает обобщенные философские или поэтические символы, а уж наше дело, как воспользоваться ими. О "Буратино" можно сказать твердо: сказка эта добрая. Однако у Толстого одни слова уж больно далеко разошлись с другими, которые, повторяю, писать его никто не вынуждал. Как же новые поколения должны относится к сочинениям Алексея Николаевича Толстого? С отвращением оттолкнуть их или не обращать внимания на его моральный облик? Мол, какое нам дело до того, что Толстой написал сервильную повесть "Хлеб", ведь он же создал превосходный роман "Петр Первый", в котором, кстати, подспудно просачивается мысль о просвещенном правителе. Достоинства романа признал даже Бунин, приславший из Парижа через "Известия" записку: "Алеша! Хоть ты и... но талантливый писатель"... Наверно, самое правильное все-таки знать, кто писал книгу, и если уж читать ее, то сегодняшними глазами.
Толстому принадлежат два фантастических романа, долгие годы считавшиеся золотым фондом советской фантастики. Продолжают ли они оставаться в уставном капитале этого фонда после банкротства старой системы ценностей? Впервые Толстой обратился к фантастике в романе "Аэлита" /1923 г./, если не считать изданного годом ранее рассказа "Граф Каллиостро", который, впрочем, провинциально-усадебной чертовщиной не очень выбивается из привычного писательского русла, чего никак нельзя сказать об "Аэлите". Она была написана в точке перелома, перехода от Толстого дореволюционного к Толстому советскому, и уже в ней дали себя знать противоречия, которые перекорежили многие страницы отечественных творцов: несомненный художественный талант, зоркое видение действительности оказывались в неразделимом переплетении с идеологическими догмами, отчасти усвоенными, отчасти навязанными. Ленин говорил о кричащих противоречиях в творчестве Льва Толстого. У талантливых писателей советского времени противоречия "кричали" куда громче. Фигурально говоря, это был непрекращающийся десятилетиями вопль. Обстоятельства, в которых создавалась "Аэлита", были прежде всего связаны с возвращением писателя из недолгой отлучки. Его возвращение наделало шуму в эмигрантских кругах; возможно, Толстой и сам помешивал угли в костре /открытое письмо Н.В.Чайковскому и т.п./, чтобы придать себе побольше респектабельности в глазах Советской власти. С сегодняшних позиций есть соблазн объяснить его возвращение как расчетливый конъюнктурный акт. Но это все же не так. Толстой тех лет - не сановный академик, не депутат Верховного Совета всех созывов, не председатель Государственной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских оккупантов, а молодой русский писатель, ищущий свое место в водовороте событий. Несомненно, что и отъезд его из Советской России в 1919 году и возвращение в 1923-ем были выстраданными поступками. Среди причин возвращения Толстого можно назвать по крайней мере три. Вряд ли он лукавил, когда писал Чуковскому: "Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня.Но это только так говорилось, а в эмиграции была собачья тоска. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, незнакомо... Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое родина, свое солнце над крышей..." Даже непримиримый враг советской власти, уже упоминавшийся Степун поверил в чистоту его побуждений: "Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией". Так-то оно так, но мы вправе предположить, что Бунин любил Россию не меньше, однако предпочел умереть на чужбине. Видимо, у Толстого сработали дополнительные стимулы. Он был не просто патриотом, а патриотом-государственником, он увидел - и, между прочим, не безосновательно, - что именно большевики стали правопреемниками российской великодержавной идеи. И, может быть, эта разрушительная идея и послужила основой его нравственного падения. Возвращались многие. В услужение шли не все. Но была еще одна причина. Мы уже говорили о послереволюционной эйфории среди части интеллигенции. Вот и Толстой видел в революции не только кровавого Молоха. Он уверял себя, что ЧК, продразверстка, военный коммунизм, даже перехлесты, заложники, пытки, террор - зло временное, а под поверхностной рябью таится огромная созидательная энергия. В последние годы появилось немало публицистов, которые яростно доказывают, что позитивных моментов в Октябрьской революции изначально и не содержалось, что она была всего лишь вспышкой острозаразной болезни, которую не удалось ликвидировать в зародыше исключительно из-за мягкотелости в общем-то славненького царя-батюшки и его генералов-гуманистов. Но нет сомнений, что до сталинского переворота, а у многих и позже, а у особо отсталых даже и сейчас - в умах царило, может быть, романтизированное, но искреннее убеждение: в России творится невиданный социальный эксперимент, который в короткие сроки способен дать феноменальные результаты. За эту веру я не упрекаю ни Толстого, ни кого бы то ни было из его современников. Мое единственные условие - искренность. "Аэлита" как раз и писалась, когда ее автор менял Берлин на Москву, она отразила его метания. Одному из первых об окончании работы над романом о "хорошенькой и странной женщине" в октябре 1922 года Толстой сообщил Чуковскому. Но как раз Чуковского первого поразил столь крутой поворот: "Что с ним случилось, не знаем, он весь внезапно переменился. Переменившись написал "Аэлиту"; "Аэлита" в ряду его книг - небывалая и неожиданная книга... В ней не Свиные Овражки, но Марс. Не князь Серпуховский, но буденновец Гусев. И тема в ней не похожа на традиционные темы писателя: восстание пролетариев на Марсе. Словом, "Аэлита" есть полный отказ Алексея Толстого от того усадебного творчества, которому он служил до сих пор". Можно углядеть в столь неожиданном обращении Толстого к Марсу стремление заявить о себе, как о революционном литераторе, одновременно обезопасив себя от упреков в недостаточном знании современности. Марс - это необычно, а необычное было в моде. Однако бдительные идеологические вохровцы не допускали никаких уверток: "Общим правилом можно признать, что революционный писатель принимается за изображение классовой борьбы в фантастической или утопической форме в том случае, если он не вполне разбирается в окружающей его действительности или если субъективно он стоит в... резком противоречии с сознательно принятой им идеологией" /И.Маца. "Литература и пролетариат на Западе", 1927 г./. Как видите, любому писателю не только запрещается всякое фантазирование, но его еще и априорно подозревают в контрреволюционных поползновениях. С одной стороны, в самой идее полета на Марс из голодного, неустроенного Питера отразились энтузиастические настроения тех лет. Они сродни все тому же каналу из Арктики в Индию. Но - с другой стороны - что-то сопротивляется попытке записать полет Лося в актив Советской власти. Не грандиозное, общегосударственное шоу, какие мы не раз наблюдали в дальнейшем, а рядовое, почти заурядное событие - ракета стартовала чуть ли не тайком из обыкновенного двора. Частная инициатива рядового петербургского инженера, которого даже типичным представителем революционной интеллигенции не назовешь. На Марс летят случайные люди. Но это закономерная случайность. Революция взбаламутила разные социальные слои, они перемешались, и не сплавились. Странно, не правда ли, что у Лося нет не только сподвижников, но и помощников, и он вынужден пригласить с собой в полет незнакомого солдата? Для Лося это бегство от действительности, от тоски по умершей жене, попытка преодолеть душевное смятение, даже разочарованность в жизни. /А с чего бы - в нашей-то буче боевой, кипучей?/ В сумбурной, бессвязной предотлетной речи он верно оценивает себя: "Не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? - Забвение самого себя... Нет, товарищи, я - не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я трус, я - беглец..." В последующих изданиях автор подубрал пессимистические настроения героя, но тем не менее его Лось решительно не похож на звездных капитанов, напоминающих по бездуховности металлический памятник Юрию Гагарину, который воздвигнут в Москве на площади его имени. Правда, монументы повалили в фантастику несколько позднее, но и начинать эпопею освоения космоса героическим советским народом с каких-то неврастеников не полагалось бы, чего опять-таки не оставила без внимания критика 20-30-х годов. Комментаторы настоятельно рекомендовали автору ввести в книгу иных героев. Так, Л.Жуков хотел бы улучшить Лося. "Читатель вправе думать, что инженер Лось еще раз полетит на Марс. Эта волевая активность заряжает читателя, пробуждает в нем активное стремление двигаться вперед и вперед". /Уж кто-кто, а Лось пробуждать энергию в читателях не может, да и не собирается. Его и на одну Аэлиту-то не хватило/. А М.Чарный выражает противоположное сожаление: вот если бы Толстой оставил гостя в объятьях Аэлиты, то инженер скорее "разоблачил" бы себя. Впрочем, и лучшие, неангажированные критические силы тоже встретили роман прохладно, правда, по другим причинам. Виктор Шкловский как всегда лапидарен и категоричен: "Аэлита прежде всего неприкрытое подражание Уэльсу... На Марсе, конечно, ничего не придумано... В "Аэлите" - скучно и не наполнено...", "Роман плоховат", "Не стоило писать марсианских рассказов", - в голос заявили Чуковский с Тыняновым. Но и критично настроенные рецензенты высоко оценивали образ спутника Лося, красноармейца Гусева. Чуковский после основательной выволочки вынес приговор: "И все же "Аэлита" превосходная вещь, так как служит пьедесталом для Гусева. Не замечаешь ни фабулы, ни других персонажей, видишь только эту монументальную фигуру, заслоняющую весь горизонт. Гусев - образ широчайших обобщений, доведенный до размеров национального типа. Если иностранец захочет понять, какие люди у нас делали революцию, ему раньше всего нужно будет дать эту книгу. Миллионы русских рядовых деятелей русской революции воплотились в этом одном человеке..."