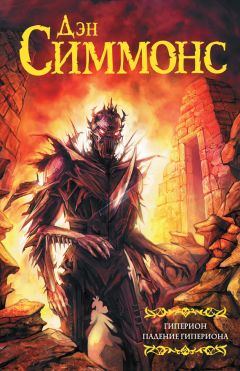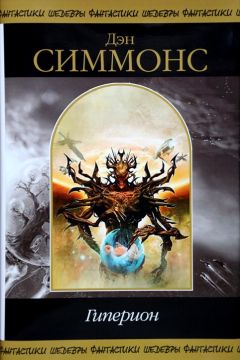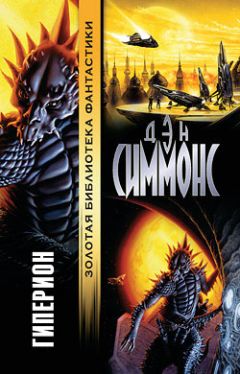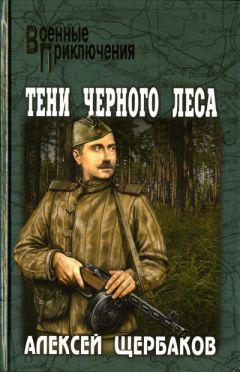Дэн Симмонс - Гиперион
По коже пробежал холодок, и я с трудом подавил желание расхохотаться. Это же избитое клише старых приключенческих голофильмов: затерянное племя поклоняется «богу», который неведомо как попал в их деревню, пока в один прекрасный день этот бедняга не умудряется порезаться во время бритья (или за каким-то другим занятием), после чего туземцы, удостоверившись, что их гость – не более чем простой смертный, приносят бывшее божество в жертву.
Все это было бы смешно, но бескровное лицо Тука и зияющая рана у него на горле до сих пор стоят у меня перед глазами.
Их отношение к кресту позволяло предположить, что я встретил уцелевших потомков какой-то христианской колонии (католиков?). Правда, комлог упорно настаивает на том, что семьдесят колонистов с челнока, разбившегося на этом плато четыреста лет назад, были неокервинскими марксистами, а те, по идее, проявляли полнейшее равнодушие, если не прямую враждебность, к старым религиям.
Я подумывал о том, чтобы оставить эту тему, ибо дальнейшие расспросы становились просто опасными, но дурацкое любопытство не давало мне покоя.
– Вы почитаете Иисуса? – спросил я.
Их равнодушные взгляды были красноречивее любого ответа.
– Вы молитесь Христу? – допытывался я снова и снова. – Иисусу Христу? Вы христиане? Католики?
Никакой реакции.
– Вы католики? Иисус? Мария? Святой Петр? Павел? Святой Тейяр?
Комлог издавал какие-то звуки, не имевшие для них, видимо, никакого смысла.
– Вы следуете кресту? – спросил я, в надежде наладить хотя бы видимость взаимопонимания.
Все трое посмотрели на меня.
– Мы принадлежим крестоформу, – сказал Альфа.
Я кивнул, хотя ничего не понял.
Перед самым заходом солнца я ненадолго заснул, а когда проснулся, услышал органную музыку вечерних ветров Разлома. Здесь, на террасе, она звучала еще громче. Казалось, даже хижины присоединялись к хору, когда порывистый ветер, задувавший снизу, свистел и завывал, проносясь через щели в каменных стенах и дымоходы.
Что-то было не так. Мне понадобилась целая минута, чтобы осознать: деревня покинута. Все хижины были пусты. Я сидел на холодном камне и гадал: не мое ли присутствие подтолкнуло их к бегству. Музыка ветра закончилась, начали свое ежевечернее представление метеоры. Я любовался им сквозь разрывы в низких облаках, как вдруг услышал за спиной какой-то звук. Обернувшись, я обнаружил, что все Трижды Двадцать и Десять стоят позади меня.
Не произнося ни слова, они прошли мимо и разбрелись по хижинам. Огней они не зажигали. Я представил, как они сидят там, в своих хижинах, глядя прямо перед собой.
Прежде чем вернуться к себе, я некоторое время побродил по деревне. Подойдя к краю поросшего травой уступа, я остановился у самого обрыва. Со скалы прямо в пропасть свешивалось некое подобие лестницы, сплетенной из лиан и корней. Лестница обрывалась через несколько метров и висела над пустотой. Внизу, на глубине двух километров, текла река. Лиану такой длины найти невозможно.
Но бикура пришли именно оттуда.
Полная бессмыслица. Я покачал головой и вернулся.
Сижу в хижине, пишу при свете дисплея комлога. Я пытаюсь продумать меры предосторожности. Хотелось бы встретить рассвет живым.
Но в голову ничего не приходит.
День 103
Чем больше я узнаю, тем меньше понимаю. Я перетащил в деревню почти все свое оборудование и снаряжение и сложил в хижине, которую они освободили специально для меня.
Я фотографировал, записывал видео- и аудиочипы. У меня теперь есть полная голограмма деревни и всех ее обитателей. Но им, похоже, все безразлично. Я проецирую их изображения, а они проходят через них, не проявляя никакого интереса. Я воспроизвожу их речь, а они улыбаются и разбредаются по хижинам, сидят там часами, ничего не делают и молчат. Я предлагаю им безделушки, предназначенные для обмена, а они берут их без единого слова, пробуют на зуб и затем, убедившись, что они несъедобны, бросают на землю. Трава усеяна пластмассовыми бусами, зеркальцами, лоскутками цветной материи и дешевыми фломастерами.
Я развернул полную медицинскую лабораторию, но без толку: Трижды Двадцать и Десять не дают мне осмотреть их. Они не позволили даже взять кровь на анализ, хотя я не раз показывал им, что это совершенно безболезненно. Они не дают мне обследовать их с помощью диагностического оборудования. Короче говоря, не желают иметь со мной никаких дел. Они не спорят. Они не объясняют. Они просто отворачиваются и уходят. Уходят к своему безделью.
Я провел среди них неделю, но все еще не научился отличать мужчин от женщин. Их лица напоминают мне картинки-головоломки, которые меняют форму, когда на них смотришь. Иногда лицо Бетти выглядит бесспорно женским, а десять секунд спустя – совершенно бесполым, и я уже мысленно зову ее (его?) не Бетти, а Бет. С их голосами происходят такие же перемены. Негромкие, хорошо модулированные и столь же бесполые… они напоминают мне голоса устаревших домашних компьютеров, которые до сих пор встречаются на отсталых планетах.
Я ловлю себя на том, что хочу увидеть обнаженного бикура. Признаться в этом нелегко, особенно, если ты – иезуит сорока восьми стандартных лет от роду. К тому же это непростая задача, даже для такого опытного «подглядывателя», как я. Табу на обнаженное тело соблюдается неукоснительно. Они не снимают свои длинные одежды даже во время двухчасового полуденного сна. Мочатся и испражняются они за пределами деревни, но подозреваю, что и тогда они не снимают своих балахонов. Похоже, они никогда не моются. Казалось бы, это повлечет за собой некоторые проблемы (попросту говоря, от них начнет пованивать), но у этих дикарей нет никакого запаха, за исключением легкого, сладковатого запаха челмы.
– Ты когда-нибудь раздеваешься? – спросил я как-то Альфу (вопрос был неделикатен, но любопытство пересилило).
– Нет, – ответил Ал и отправился куда-то сидеть в полном облачении и ничего не делать.
У них нет имен. Сначала это показалось мне невероятным, но теперь я уверен.
– Мы все, что было и что будет, – сказал самый маленький бикура, которого я считаю женщиной и мысленно называю Эппи. – Мы Трижды Двадцать и Десять.
Я порылся в архиве комлога и получил подтверждение тому, в чем, в общем-то, не сомневался: среди шестнадцати тысяч известных человеческих сообществ нет ни одного, где бы полностью отсутствовали личные имена. Даже в ульях Лузуса индивидуумы откликаются на категорию их класса, за которой следует простой код.
Я сообщаю им свое имя, а они тупо смотрят на меня. «Отец Поль Дюре, Отец Поль Дюре», – твердит переводное устройство комлога, но они даже не пытаются повторить.