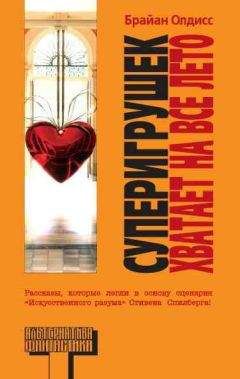Брайан Д'Амато - Хранитель солнца, или Ритуалы Апокалипсиса
— Что, если бы я не подвернулся тебе сегодня? — спросил я.
— Позвонила бы другому парню, — не растерялась она. — Он бы меня подкинул, а я за это дала бы ему.
Ладно, забудем о колесах для перевозок. Как насчет гончарного круга?
И я опять бросился с места в карьер. Дело в том, что, если уж откровенно, посуда в Мезоамерике при всей красоте рисунков была довольно корявой формы. Тот, кто сделал бы идеально круглую чашу, произвел бы сенсацию. Но у Кох имелось аналогичное возражение. Синоды, по ее мнению, объявят умельца колдуном, наделенным сверхъестественной силой. И немедленно пошлют людей, чтобы избавиться от него. Ну а если все утрясется и посуда с гончарного круга войдет в обиход, это обречет тысячи семей горшечников на голод, поскольку они не сумеют сразу освоить новый способ. Я думаю, та же причина мешала нам (я имею в виду майя, теотиуакан или любую другую мезоамериканскую цивилизацию) стрелять из луков, хотя Длинноростки и использовали их. Похожая логика лежала в основе самурайского культа меча — Токугава[669] предвещал, что с появлением в Японии стрелкового оружия будет потрясена вся властная структура, даже если сегунат первым завладеет им. Поэтому он и его наследники конфисковали ружья, изгнали португальских торговцев из большей части страны и почти сто пятьдесят лет держали страну в максимальной отсталости.
— Делать такую посуду в Теотиуакане нельзя. Конец.
Идеи иссякали. Мы в Стейке и не предусматривали такого развития событий.
— Тогда просто кинь пробный шар, — осенило меня.
Мой императив переводился легко: «прощупай игроков» — сделай ставку в покере, чтобы посмотреть, как соперники поведут себя. Рискни — ради игры, для понта, хрен знает зачем.
— Ты думаешь, меня не интересует твой уровень? — Я не ответил, и Кох продолжила: — Интересует. Но другая сторона любопытства — несбыточные надежды, мучительство. — Госпожа явно боялась своей неосторожностью повредить близким людям.
Ну что ж, по крайней мере, она не лишена сострадания. Обычно я не люблю делать обобщения о человечестве в целом не оттого, что ошибаюсь, а потому, что эти истины давно открыты, но сейчас хочу привести одну из них: человек или наделен способностью к сопереживанию от природы, или (гораздо чаще) нет. И либо Кох принадлежала к первой категории людей, либо мы оказывались в жопе, вот и весь разговор.
Так, соображай.
Сострадание — слишком абстрактное понятие, а потому в ишианском для него не было определения. Приходилось выражаться на семейном языке.
Отлично.
— Я знаю… — начал я. — Если бы ты на дороге увидела, как кто-то душит трехлетнего ребенка, то вмешалась бы. Пусть это был бы урод от рождения, покрытый неизлечимыми струпьями, от которого решил избавиться его отец, ты все равно возмутилась бы и, если бы могла, остановила его.
— Твоих одновременников нет на нашей дороге, — возразила она.
— Есть. К тому времени двадцать по двадцать по двадцать по двадцать моих одновременников будут твоими потомками или потомками твоих сестер, твоих братьев, потому что…
Я замолчал и заглянул ей в глаза. Она смотрела мимо меня — куда-то над моей головой.
— Они, — не сдавался я, — будут умирать, но перед смертью станут спрашивать себя, почему никто не захотел им помочь. Если бы они знали, что я, который ниже тебя, и ты могли их спасти, но не сделали этого, они бы захотели узнать почему, и наш ответ был бы плохим оправданием…
Я замолчал. Слезы, которые никогда не прольются, душили меня, изнутри жгли сухие глаза. Мне не хватало дыхания, я разевал рот, как рыба на берегу, почти начал заикаться, как это случалось со мной в детстве, если я говорил по-английски и вдруг впадал в панику. Черт тебя побери, Джед, соберись, собери…
— Я, равная тебе, приняла решение, — произнесла Кох.
Слишком много солнц уже родилось,
Слишком много еще грядет.
Люди зерновой плоти исчезнут с солнцем
4 Властителя, 3 Желтизны.
Может быть, когда-нибудь потом появится
Новый наследник Ицтамны,
Он создаст новый род из иного материала,
Может быть, из нефрита.
Она замолчала, а потом хотела сказать «ка’ек» — «конец», но я прервал ее.
— Постой, — проговорил я (точнее, закричал), — постой, ты не… — («Тоном ниже, Джед», — приказал себе я), — ты, которая высоко надо мной, не должна решать за них. Даже если твои выводы верны.
— Нет, — отвечала она, — я не имею права продлевать их время на нулевом уровне, даже если бы и могла.
— Имеешь… то есть… ты хочешь их спасти, но считаешь или тебе внушили, что не должна… Однако если сложить вместе мой опыт и твой… Ведь я был здесь и там и видел вещи, которые…
Я сбился и начал снова:
— Уверен — не потому, что это правильно, просто это истина, — ты можешь делать все, что сочтешь нужным.
Поскольку все правила этикета уже неоднократно нарушались, я осмелился заглянуть ей в глаза, широко раскрытые и будто навыкате… Стойте! Нет! Веки Кох с нарисованными на них зрачками были сомкнуты, и казалось, она смотрит на тебя, будто сиротка Анни, созданная Гарольдом Греем.[670]
Тьфу. Какое потрясение. Потрясеньице. Черт, неужели она за все это время ни разу не моргнула? Или я не заметил? Чудненько.
Я не знал, что делать. Должно быть, госпожа Кох не желала пялиться на меня или отворачиваться, а потому просто опустила веки.
Ну же, Джед. Придумай что-нибудь.
— Я, который ниже тебя, требую, чтобы ты посмотрела на меня, — сказал я.
Представьте, что я брякнул: «Ну попробуй, ударь меня». Тем не менее я понимал, что сейчас необходим хоть самый малюсенький визуальный контакт. Чтобы убедиться: мы играем на равных. Или во мне просто взыграло ретивое (я уже говорил, что из чувства противоречия можно сделать что угодно). И она открыла глаза. Наши взгляды встретились.
(51)
В школе Нефия… (Конечно, прерывать повествование не годится, и даже если бы существовали исключения из этого правила, они бы не распространялись на данный случай; тем не менее, мой дорогой и долготерпеливый читатель, как говорилось в стародавние времена, давай немного переведем дыхание.) Итак, в школе Нефия постоянной учительницей на подмену в младших классах работала крупная старуха, которая помнила, когда внуки первопроходцев приходили в школу босиком, и была настоящим кладезем всевозможных развлечений из дотелевизионной эпохи. Она знала все о тряпичных куклах, вышивании, марионетках и в особенности о комнатных играх — фантах, шарадах, ужасающем ритуале выуживания яблок, испорченном телефоне, святочных гаданиях, театре теней. Эта хранительница традиций показала нам утраченный мир бесконечных сумеречных вечеров, рухнувший с началом работы АЭСМ.[671] И вот как-то в пятницу она прорезала шесть дырочек в старой белой простыне и велела нам приклеить простыню скотчем на широкую дверь, ведущую в чулан. Двенадцать человек — а именно половина класса — отправились туда, и трое из них приложились к глазкам. Мы же, из другой команды, по очереди подходили к простыне и пытались угадать, кто это. И никого не узнали, кроме рыжей Джессики Ганнерсон с глазами анилиново-фиолетового цвета, как синие чернила на последней, еще читаемой копии с гектографа. Не видя ни одной черты лица, ты не мог сказать, кто перед тобой — твой лучший друг или заядлый враг, который наверняка сейчас корчит тебе рожи, и даже не знал, девчонка там или мальчишка. Это тревожное ощущение не раз возвращалось десятилетия спустя, когда я, например, смотрел в глаза какой-нибудь молодой дамы, которая хотела наладить со мной отношения (люди мы или животные, в конце концов). В прозрачной глубине ее очей светилась симпатия или, в худшем варианте, честность, но я осознавал, что в любом случае женщина откровенна со мной. И вдруг ни с того ни с сего в памяти всплывала та глупая игра «угадай кто». Зрачки моей визави сразу превращались в дыры — и там зияла бессмысленная межгалактическая пустота. Между нами вырастала стена, и я, оторванный от всего мира, беспомощно барахтался в механистическом космосе, как в mierditas refritos,[672] не просто лишенный возможности общения с другим существом, но обреченный на полное одиночество и ныне, и в будущем, и даже в прошлом. А теперь (в 664 году н. э.) я снова играл в эту игру, в упор глядел на госпожу Кох и, борясь с отчаянием, надеялся уловить в ее глазах хотя бы слабый намек на то, что мы с ней реальны и наделены сознанием, независимыми желаниями и существуем в одно и то же время в конкретном месте пространства. Ее лицо было бесстрастным, как у хорошего шахматиста, игрока в го или холдэм,[673] — в свое время я повидал множество столь же каменных лиц по другую сторону игральных столиков, — но в очах ее порой вспыхивали загадочные искорки, словно у Клео де Мерод.[674] Темные радужки почти сливались с зрачками, и я различал два оттенка черного, будто на картинах Эда Рейнхардта.[675] Казалось, левый глаз у нее холоднее, а правый — теплее… Что за звук? На улице пошел дождь? Нет, это кровь шумит у меня в ушах.