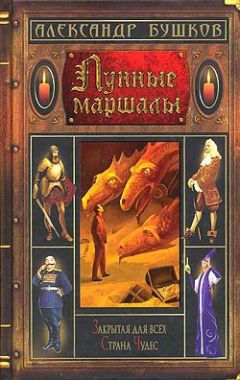Габриэль Тард - Отрывки из истории будущего
Но довольно блуждать среди этих тайн. Вернемся в наши города. Тщетно мы стали бы искать особой корпорации адвокатов или хотя бы здание суда. С тех пор, как нет больше пашен, нет и процессов о собственности и о повинностях. С тех пор, как нет стен, нет и процессов о стенах, разделяющих владение. Что касается преступлений и проступков, то трудно сказать почему, но во всяком случае это очевидный факт, что культ искусства, сделавшись общим, искоренил их, как по волшебству, тогда как прежде прогресс промышленной жизни утраивал их каждые пятьдесят лет.
Замкнувшись в городах, люди сделались мягче. С тех пор, как деревья и животные, цветы и насекомые всех родов не встречаются в обществе людей, с тех пор, как всевозможные грубые потребности не задерживают развитие истинно-человеческих свойств, кажется, что все люди рождаются благовоспитанными так же, как все рождаются скульпторами, музыкантами, философами или поэтами и с самого рождения говорят на самом правильном языке и с самым чистым акцентом. Весь сложный и тонкий механизм нашего существования пропитан, как надушенным маслом, особым не поддающимся определению городским тоном, способным очаровывать без лжи, нравиться без подобострастия и без всякой вкрадчивости, особой — такой, какой на земле и не подозревали — вежливостью, сущность которой составляет не чувство уважения к социальной иерархии, а инстинкт сохранения социальной гармонии, и которая состоит не в более или менее устарелых формах угодничества, но в более или менее искренней сердечности. Против нее не может устоять ни дикость, ни человеконенавистничество. Простой угрозы остракизма — я говорю не об изгнании наверх, что было бы равносильно осуждению на смерть, а об удалении из пределов корпорации, с которой человек сроднился, — достаточно, чтобы удержать самые преступные натуры на наклонной плоскости, ведущей к преступлению. В малейшей модуляции голоса, в малейшем повороте головы наших женщин существует особая грация, в которой, кроме грации былого времени, кроме доброты, соединенной с насмешливостью или насмешливости, соединенной со снисходительностью, есть что-то, в одно и то же время и более утонченное и более святое, что-то такое, в чем удивительно сказывается постоянная привычка видеть доброе и делать доброе, любить и быть любимой.
VI. Любовь
Любовь — вот поистине невидимый и неиссякаемый источник этой чуткости нового человечества. Преобладающее значение, которое она приобрела, своеобразные формы, в которые она облекается, неожиданная высота, до которой она поднялась, составляют, быть может, наиболее характерную черту нашей цивилизации. В те, отличавшиеся блеском и поверхностностью века, — в века накладного серебра и бумаги, — которые непосредственно предшествовали нашей теперешней эре, любовь, стесняемая тысячей суетных потребностей, заразительной жаждой безобразной и обременительной роскоши или мономанией безостановочного передвижения или той исчезнувшей теперь формой безумия, которую называли политическим честолюбием, теряла, относительно, очень много в своей силе. Теперь она растет благодаря исчезновению или постепенному ослаблению всех других великих движений сердца, которые все претворились в любовь и сосредоточились в ней одной подобно тому, как люди, изгнанные с поверхности земли, сосредоточились в ее горячих недрах. Патриотизм умер с тех пор, как нет больше родной земли и есть только родная пещера, а место отечества заняли корпорации, в которые каждый вступает добровольно, сообразно своему призванию. Корпоративный дух убил патриотизм. Точно так же школа все более и более стремится если не уничтожить, то преобразовать семью, и об этом жалеть не приходится. Все, что можно сказать лучшего о родственниках былого времени, это, что они были неизбежными друзьями, не всегда безвозмездно дарившими свою дружбу. Наши предки не были виноваты в том, что в общем предпочитали простых друзей, своего рода тоже родственников, но только не обязательных и бескорыстных. Сама материнская любовь, среди наших женщин-артисток, очень изменилась, и, нужно признаться, до известной степени ослабла.
Но все-таки любовь остается за нами. Или скорее — это можно сказать без хвастовства — только мы ее открыли и освятили. Ее имя было известно много веков тому назад. Только нам она явила себя: только у нас она воплотилась и основала универсальную и вечную религию, строгую и чистую мораль, которая гармонирует с нашим искусством. В начале ее развитию, без сомнения, благоприятствовала — больше, чем это можно было предвидеть — грация и красота наших женщин, так различно и в то же время так почти одинаково совершенных. В нашем подземном мире нет ничего, что более говорило бы о природе, чем женщины. Впрочем, кажется, что и всегда, даже в те антихудожественные эпохи, которые были так бедны грацией, женщины были лучшим украшением природы. Уверяют, что никогда ни волнистые линии холмов или реки, волн или нивы, ни краски зари или Средиземного моря не могли даже приблизительно сравняться с телом женщины ни силой, ни нежностью, ни богатством мотивов и изгибов. Но в том далеком прошлом для этого нужно было, чтобы особый инстинкт, теперь совсем непонятный, удерживал бедняков на берегу их родной речки или у родного холма и мешал им переселиться в большие города, где они имели бы полную возможность наслаждаться всеми оттенками и очертаниями красоты, во много раз превосходившей те прелести родной природы, с которыми их связывало роковое влечение. Теперь нет другого отечества, кроме женщины, которую любят, и нет другой тоски, кроме той боли, которую причиняет ее отсутствие.
Но всего, что сказано, недостаточно, чтобы объяснить могущество и особую устойчивость нашей любви, которая с возрастом не только не растрачивается, но даже обостряется, и пламя которой становится тем чище, чем долее оно горит. Любовь, — мы, наконец, это знаем теперь, — то же, что воздух, которым мы живем; нужно дышать, а не упитываться им; она то же, чем было когда-то солнце; нужно, чтобы она освещала, а не ослепляла. Она похожа на тот величественный храм, который в своем усердии воздвигли ей наши отцы, когда они обожали ее, не зная ее: на Парижскую оперу; что в ней кажется самым красивым, так это лестница, когда по ней поднимаются. Мы так же стараемся, чтобы лестница занимала почти все здание и чтобы лишь очень небольшое место оставалось для зала. Мудрец, сказал один из наших предков, должен относиться к женщине, как асимптота к кривой; он всегда приближается к ней, но никогда не касается ее. Человек, провозгласивший этот прекрасный афоризм, был полусумасшедший по имени Руссо. Наше общество может похвастаться тем, что оно применяет его правило гораздо лучше, чем он сам. Впрочем, нужно признаться, идеал, такой, каким наметил его Руссо, редко осуществлялся во всей строгости. Эта степень совершенства — удел самых святых душ, аскетов, мужчин и женщин, которые проводят свою жизнь в том, что, прогуливаясь попарно в дивных монастырях, в рафаэлевских залах города художников, в цветной полутьме, создающей как бы искусственный вечер, в толпе таких же пар и, если можно так выразиться, у потока смелой и блестящей наготы, наслаждаются созерцанием этих волн, живой берег которых — их любовь, которые вместе поднимаются по огненным ступеням божественной лестницы до самой вершины, у которой они останавливаются. Потом, вдохновленные воспоминаниями, принимаются за работу и создают перлы творчества. Это — герои любви, которые, взамен всех удовольствий любви, испытывают высокую радость чувствовать, как растет их любовь, их счастливая любовь, потому что она взаимная, вдохновляющая, потому что она целомудренная.