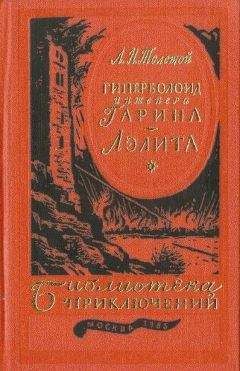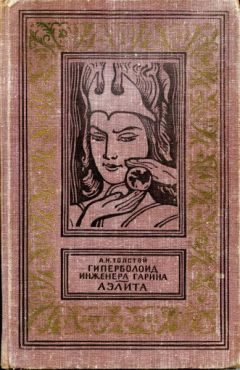Алексей Толстой - Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина
Вот он нырнул и пошел у самой пашни, — одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке — яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, снизился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в тридцати от людей.
Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы. Но когда Лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел и продолжал кричать пискливым, тонким голосом, указывая на поломанные растения.
— Чудак, обижается, — сказал Гусев и крикнул марсианину. — Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим…
— Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.
Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом.
В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки — в одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум. Гусев понюхал.
— Тьфу, скажите, что едят!
Он вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.
Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам пополз многоногий зверек… Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.
Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку, — курил, усмехался.
— Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели?
— Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся.
— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три или двадцать четыре дня.
— Сколько?
— Вчера в Петрограде было восемнадцатое августа, а сегодня в Петрограде одиннадцатое сентября, — вот чудеса какие.
— Этого, вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич.
— Да этого и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули Землю, по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечала, — едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело — наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве, — составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца, — один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате, — увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела мы прожили в пути девятнадцать часов. И это на самом деле были девятнадцать часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на Часах Петропавловского собора прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралиддита и предлагать каким-нибудь чудакам: вам не нравится жить в наше время, — хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато — какая жизнь! Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле — золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь.
Гусев охал, щелкал языком, много удивлялся:
— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья, — мы не отравимся?
Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул: пить можно! Хлебнул, крякнул.
— Вроде нашей мадеры.
Лось попробовал; жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошли тепло и особенная легкая сила, голова же оставалась ясной.
Лось поднялся, потянулся, расправился, — хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом, несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную, новую жизнь.
Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок.
— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.
Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине.
Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль.
Вдруг Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.
— Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них, — взлетела пыль. Глаза исчезли. — Вон еще — гадина! — Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на Земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросли.
Заброшенный дом
От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по горелому, бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпуклые диски — около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор — по холмам — к древесным кущам, к развалинам.