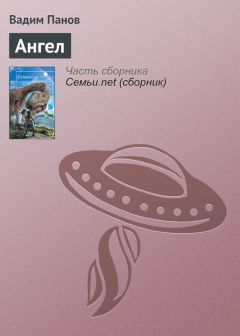Шелли Мэрри - Франкенштейн, или Современный Прометей. Последний человек.
Казалось, будто усталое тело наконец отдыхает и сладкий сон смежил дивные глаза. Но нет! Она была мертва! Как жаждал я лечь рядом и смотреть на нее, пока смерть не принесет мне тот же покой!
Однако смерть не является по зову несчастных. Незадолго перед тем я оправился от смертельного недуга, однако никогда еще кровь в моих жилах не текла так быстро и тело не было так полно жизни. Я чувствовал, что искать смерти должен я сам. Что же было бы естественнее, чем умереть от голода в этом склепе, возле моей утраченной надежды? Но, глядя на ее черты, столь похожие на черты Адриана, я снова вспомнил о живых, о моем друге, о Кларе и об Ивлине, которые с тревогой ожидали нас в Виндзоре.
Тут наверху, в часовне, мне послышались шаги, гулко отдававшиеся под сводами. Неужели Клара увидела наш экипаж, проезжавший через городок, и теперь ищет меня здесь? Я должен хотя бы избавить ее от страшного зрелища, какое представлял собою склеп. Взбежав по ступенькам, я увидел, что по темной часовне движется согбенная возрастом женщина в длинном траурном одеянии, опираясь на трость, но даже при этом шатаясь. Она услышала мои шаги и подняла взор; светильник, который я держал в руке, осветил меня; лунные лучи, пробиваясь сквозь витраж, высветили морщинистое, изможденное лицо и все еще повелительный острый взгляд. Я узнал графиню Виндзорскую.
- Где принцесса? - спросила она глухим голосом.
Я указал на отверстие в полу; она подошла к нему и стала вглядываться в темноту, ибо склеп был слишком далеко, чтобы оттуда доходил свет небольшого светильника, оставленного мною.
402
Последний человек
- Дайте сюда огня, - сказала она. Я повиновался. Она взглянула на видимые теперь, но крутые ступеньки, словно оценивала собственные силы. Я молча сделал жест, предлагавший ей помощь. Она отстранила меня презрительным взглядом и, указывая вниз, сказала резко: - Пусть хотя бы здесь я останусь с нею наедине.
Она медленно сошла по ступенькам. А я, терзаемый мукою, которую не выразить ни словами, ни слезами, ни стонами, опустился на каменный пол.
Под ним покоилось вечным сном недвижное, окоченевшее тело моей Айдрис.
Для меня это было концом всего! Еще накануне я строил различные планы и думал о встречах с друзьями. Теперь я перешагнул этот промежуток и достиг жизненного предела. Погруженный во тьму отчаяния, замурованный в неумолимую действительность, я вздрогнул, когда услышал шаги на ступеньках склепа, и вспомнил ту, о которой совсем позабыл, - мою гневную посетительницу. Ее высокая фигура медленно поднялась из подземелья живой статуей, полной ненависти и земной воли к борьбе. Она прошла по приделу и остановилась, ища кого-то глазами. Увидев меня, она положила сморщенную руку на мое плечо и сказала дрожащим голосом:
- Сын мой, Лайонел Вернэ!
Это слово, произнесенное в такой миг матерью моего ангела, внушило мне больше почтения к высокомерной даме, чем я когда-либо испытывал. Я склонил голову и поцеловал ее иссохшую руку; заметив, что ее сотрясает сильная дрожь, я подвел женщину к ступеням, которые вели к сиденью у алтаря, предназначенного королям. Она позволила вести себя; все еще держа мою руку, она прислонилась к алтарю; лунные лучи, окрашенные во все цвета витража, осветили ее глаза, блестевшие от слез; почувствовав эту слабость и призвав на помощь достоинство, которое так долго соблюдала, она смахнула слезы, но они набежали вновь, и она сказала, словно оправдываясь:
- Как она прекрасна и спокойна, даже в смерти! Ни одно злое чувство никогда не омрачало этот кроткий лик. А как я поступала с нею? Я ранила ее нежное сердце безжалостной суровостью, ни разу не сжалилась над нею.
Прощает ли она меня сейчас? Ох, как бесплодны слова раскаяния и мольбы о прощении! Если бы я при ее жизни хоть раз уступила ее желанию, выраженному всегда с такой кротостью, хоть раз обуздала свою суровость, чтобы доставить ей радость, я сейчас не мучилась бы так.
Айдрис и ее мать были внешне совсем непохожи. Темные волосы, темные, глубоко посаженные глаза и крупные черты лица бывшей королевы составляли контраст золотистым косам, большим голубым глазам и нежным чертам ее дочери. Однако в последнее время болезнь отняла у моей подруги нежный овал лица, заставив проступить кости. В форме ее лба и подбородка можно было найти сходство с матерью. Более того, жестами она порой также напоминала мать, и это было неудивительно, ибо они долго жили вместе.
Том III. Глава третья
403
Сходство обладает магической силой. Когда умирает кто-то любимый нами и мы надеемся свидеться с ним в ином мире, мы все-таки ожидаем, что новый его облик будет схож с его земной оболочкой, обратившейся в прах.
Но это всего лишь наше желание. Мы знаем, что инструмент разбит, что милый образ разлетелся на осколки и исчез в небытии. Взгляд, жест или строение тела, которые в живом человеке напоминают нам умершего, задевают струну, звучащую в глубине сердца священной гармонией. Странно тронутый, пораженный и покоренный силой кровного родства, выразившегося в сходстве черт и движений, я стоял, дрожа, перед гордой, суровой и прежде не любимой мною матерью Айдрис.
Несчастная, заблуждавшаяся женщина! Когда ей случалось смягчаться, ей нравилось думать, что любое ее милостивое слово или взгляд будут встречены с радостью и вознаградят за долгие годы безжалостной суровости. Время проявлять такую власть миновало, и она ощутила жестокую правду: никакие улыбн ки, никакие ласки не могли достичь той, что покоилась в склепе, и осчастливить ее. Поняв это и вспомнив смиренные ответы на гневные речи, кроткие взгляды, какими встречались ее сердитые взоры, осознав всю пустоту, ничтожность и тщетность взлелеянных ею мечтаний о титулах и власти, поняв, что подлинными владыками нашего земного существования являются любовь и жизнь, она была охвачена смятением, захлестнувшим ее точно мощный прилив. Мне выпало на долю успокоить эти бурные волны. Я заговорил с ней; я привел ее к мысли о том, как счастлива была в жизни Айдрис, как ее добродетели и совершенства находили себе применение и бывали по достоинству оценены. Я восхвалял ее, кумир моего сердца, идеал женского совершенства. Я говорил красноречиво и пылко, облегчая тем свою душу, и ощутил новую радость, произнося этот траурный панегирик. Затем я упомянул Адриана, любимого ею брата, а также оставшегося после нее ребенка. Я упомянул то, о чем почти позабыл: о своем долге по отношению к этим дорогим частицам ее самой. Я просил раскаявшуюся и скорбевшую мать подумать, как ей лучше всего искупить свою суровость к покойной удвоенной любовью к тем, кто ее пережил. Утешая ее, я облегчал собственную скорбь. Слова мои были искренни и совершенно ее убедили.