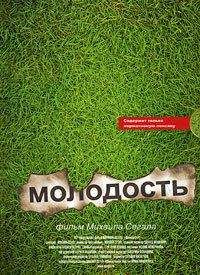Георгий Гуревич - Ордер на молодость (Сборник с иллюстрациями)
Последнюю сцену «Совести» я помнил и без Тернова. В ней изображалась встреча Эйнштейна с Мбембой, которая, конечно, произойти не могла. Мбемба родился ровно через сто лет после смерти создателя теории относительности, но на сцене разрешается всякое. Автору очень хотелось свести Эйнштейна с современными физиками, он и свел его… на подмостках и поручил автору «Объяснимой физики» (все мы ее проходили в девятом классе) объяснить великому предшественнику, что у него бывали ошибки не только в жизни, но и в науке. Безумно-непонятную «новейшую физику» XX века, непонятностью которой так гордились ее создатели, в XXI веке научились трактовать иначе — очень просто, разумно и понятно. И давно перестали искать единую теорию поля, мечту Эйнштейна, этакий философский камень, математическую панацею для всех законов физики. Перестали искать потому, что причина бесконечно разнообразна и не сводится к одному уроавнению.
Для великого же старика единая теория поля (если верить автору пьесы) имела не только физический смысл. Сведя всю материю в единое уравнение, он надеялся построить в конце концов математический каркас всех законов природы и естественных законов человечества, человеков, столько раз огорчавших доброго мыслителя. Отказаться от надежды всей жизни трудно, и вот он вступает в спор с Мбембой. Спорит же по-своему, привычно выписывая убедительные уравнения и приговаривая:
— Вы же видите, здесь корень из минус единицы. Мнимое время, мнимая величина.
Именно этот диалог не удался Тернову. Что такое «мнимое время»? Почему «мнимое»? При чем тут время вообще? И что такое время в формулах? И какой в нем смысл?
Не понимал, не понял, но подслушал интонацию. Уловил скороговорку специалистов. Научился подражать ей. И с торжеством говорил Сильве о своей удаче:
— Понимаешь, на сцене я ученый, а не учитель, я не школьный урок веду, не растолковываю зрителям формулу. Я разговариваю со знатоком, для которого все эти корни мнимые величины привычнее, чем тебе таблица умножения. Я изображаю разговор двух понимающих людей. Это как в нашем деле: есть литературный сценарий для чтения и есть режиссерский для съемки. Режиссер дает указания: средний план, крупный план, наплыв… и вовсе надо объяснять зрителю, что такое наплыв, не для того он включает видео. Я не веду урок физики, я изображаю беседу понимающих людей: они убеждены в правоте, они сомневаются, они ищут доводы, они растеряны, они возмущены… Показываю чувства ученого, а не его эрудицию.
И Тернов очень гордился своей находкой. Объяснить не особен, а изобразить объясняющего может. Этакий мастерский выверт!
Он-то рассказывал с гордостью, а Сильва слушала без внимания. Даже перебила:
— Ну и когда же мы полетим на гавайские вулканы? Опять провороним извержение?
Я улыбнулся, вспомнив (я, а не Тернов), что была у Сильвы мечта пролететь над кратером. Она любила сильные ощущения: так приятно хорошенько испугаться и спастись.
Тернов выразил недовольство:
— Удивительный взгляд у тебя, Сильфида, косой какой-то взгляд. Я — артист, рассказываю тебе о работе артиста, а тебе скучно. Зачем же замуж шла за артиста?
— А ты не артист! — закричала Сильва. — Ты имитатор, мастер заученных жестов!
Жесты, слова выучил, а в душе нет ничегошеньки. Пустышка, скорлупа от выеденного яйца, гулкая пустота!
— Сильфидочка, что с тобой?
А в голове: «Капризы! Капризы! Да что с ней спорить! Обниму, и успокоится».
— Отойди, отойди! Руки убери!
— Сильфидочка, я люблю тебя, никого не любил так, больше жизни люблю, прикажи сейчас, брошусь в воду!..
— Слова, слова! Слова Ромео, слова Тристана, слова Меджнуна, слова, заученные наизусть. А сам пустышка, пустышка!
Тернов в смятении. Он сбит с толку, он подыскивает слова, цитаты мелькают в голове. Опять о любви… но о любви все сказано. Обнять? Вырывается. Стать на колени? Театральная поза. Броситься на диван, закрыть лицо руками? Тоже поза.
Потом он стоит у окна, прижав лоб к холодному стеклу. За окном скудно освещенный сад. Виден силуэт Сильвы, она волочит чемодан, слишком тяжелый для крыльев; с трудом переваливая, пристраивает на багажник одноместного мота, входит в кабину, зажигает свет, и светлый полуовал удаляется прочь от дома, съеживается, превращается в фонарик, в светляка, в звездочку… Погас! Тьма!
Тернов всматривается в тьму, напрягает, таращит глаза. Возникают и гаснут кажущиеся искорки. Нет, обман зрения. Не передумала. Не возвращается. Не вернется!
* * *Не один день просидел я в шлеме с колючими иголочками, разбираясь в воспоминаниях Тернова. Память его прыгала из прошлого в настоящее и обратно, со сцены в книгу, на городскую улицу, на пляж, за облака, в людное сборище, в пустынное болото, в школьный класс.
Почему с репетиции в болото? Жарко было, прохлады захотелось. Почему из болота в школу? Вспомнился рисунок хвоща в учебнике. Ассоциации по месту, времени, по фасонам, по мелодиям, по цвету переплета, по сходству, по полному несходству.
А мне приходилось быть настороже все время напоминать: «Стоп! Не туда поехал!
Назад! Про Сильву давай! О Сильве вспоминай! Теперь про театр. Какие там были трудности с «Совестью»?»
И постепенно вырисовывался для меня стиль жизни Тернова… и постепенно окрепло решение: «Я ему не завидую. Не хочу быть таким!»
Так и сказал я Эгвару на очередном сеансе:
— Таким я быть не хочу. Не нужен мне талант артиста.
— Почему? — спросил мой омолодитель.
Я не сразу сумел ответить. Решение сложилось раньше, чем доводы. Пришлось заняться самоанализом.
— Пожалуй, история с ролью Эйнштейна смутила меня больше всего. Я человек очень жадный. Возможно, другие не замечают, потому что внешне это не проявляется. Я не к вещи жаден; да кто же в наше время польстится на вещи, когда любую доставят со склада через час? Я жадно любопытен, мне хочется все испытать, все пережить. В школе так до окончания и не сумел выбрать специальность. Хотел стать садоводом, конструктором, шахтером, космонавтом, полярником, хирургом, климат программировать, дороги прокладывать. Как прочту книгу о хирурге, климатологе, дорожнике, хочу прожить жизнь героя. Конечно, Тернову я позавидовал потому, что Сильва его Влюбила, но ведь не одной любовью дышит человек. Мне казалось, артист на сцене проживает сотню жизней: он садовод, и конструктор, и шахтер, и космонавт, и великий физик. И вот выясняется: нет, он не великий физик. Он как бы физик, он внешне физик, он одежда физика, жесты физика, может быть, даже и переживания, но не мысли… Не дано ему счастье открытия, торжество разоблачения загадок природы. Не дано радоваться — дано изображать радость. И даже любить, как Отелло, ему не дано.