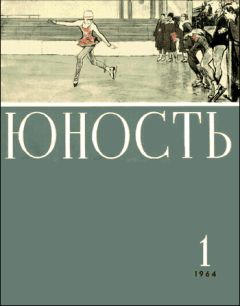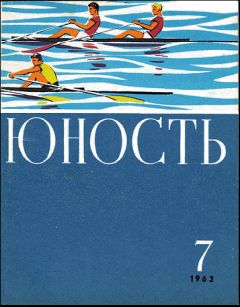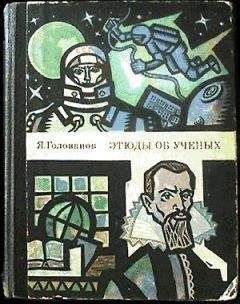Ярослав Голованов - Заводная обезьяна
– Ну да,- перебил Кисловский.- По-русски говоря, она собирается в косяки потому, что так ей лучше. Ты закусывай давай, академик.- Он захохотал и начал разливать по второй.- Ей лучше собираться в косяки, вот она и собирается. Чувство локтя, так сказать…
Иванов смолчал. Потом заговорил снова:
– Я читал, что чем резче температурный скачок в воде, тем плотнее скопления сардины у дна. То есть там, где нам надо. И чем глубже расположен этот скачок, тем мощнее эти придонные концентрации. И поэтому второе, в чем ты прав,- он обернулся к Кисловскому,- это в том, что сейчас нам отсюда действительно надо уходить. И побыстрее…
Чокнулись.
После второй рюмки Арбузов хмельно пригорюнился. "Лапоть я, лапоть,думал он.- Лево руля – право руля. С картой и лоцией последний дурак куда хочешь заплывет. Люди по науке рыбу ловят, книги читают… А я? Как пацаном бычков таскал, так и сейчас тралом таскаю…"
– Сколько у тебя в трюмах? – спросил он Иванова.
– Тонн сто. А у тебя?
– Восемнадцать,- совсем тихо ответил Арбузов.
– Эх, вы! Вот нет ни черта, а у меня 144 тонны!- Кисловский потянулся к графинчику.- Давайте еще по одной. За жен. За возвращение. Бери колбасу. Венгерская. Закусываем плохо…
– Авианосец видели вчера американский? – спросил Иванов.- Могучее корыто. Да…
Заговорили о Кубе.
Расставаясь, капитаны уговорились сегодня же разойтись и попробовать взять рыбу на банках милях в пяти – семи от берега. Ближе подходить было нельзя: начинались территориальные воды. Если за три-четыре дня обстановка не изменится, решили уходить из Гвинейского залива: "Вяземский" – на юг, за экватор, "Державин" и "Есенин" – на север, к Дакару.
Прощались капитаны уже совсем друзьями. Кисловский подарил Арбузову и Иванову бледно-розовые ракушки изумительной красоты. У него была целая коллекция совершенно невероятных ракушек. Арбузову отдарить было нечем, лангуста он уже подарил. Он достал фотографию своей жены и сыновей, объяснил, как кого зовут, и подарил фотографию. Расцеловались.
Щурясь от яркости дня, Арбузов вышел на палубу. К трапу зашагал твердо.
– Поехали, ребята! Загостились,- сказал он ясно и весело. Если бы не краснота лица и легкая дымка в глазах, нельзя было бы и подумать, что он крепко выпил.
Матросы с "Вяземского" погрузили жестяные коробки с тремя обменными кинофильмами ("Верных друзей" не отдали, утаили).
Шла мелкая зыбь, весла черкали по ее верхушкам, высекая брызги. Нестерпимо блестел, плясал огнем океан. Арбузов совсем ослеп. Он вертелся на корме, то вытягивая, то поджимая ноги, разгоряченное водкой тело его требовало движений. Хотелось сесть на банку спиной к солнцу, хотелось ощутить в руках теплое, гладкое дерево весла и почувствовать "упругую податливость воды. "Сесть разве что?.. Неудобно, черт побери, капитан все-таки…" Арбузов хлопнул в ладоши и сказал громко:
– Эх, ребята! Показал бы я вам, как грести надо!
Боцман засмеялся. Гребцы заулыбались, косясь на капитана.
Тридцать пятый день рейса
Они узнали тропическое солнце. Маленькое, белое, оно зависало в зените, как не бывает в наших морях, и тень головы катилась прямо под ноги. Было жарко. Никому не хотелось есть, даже Хвату. Липкий зной дня и духота ночи мучили людей. Спали плохо, метались во сне по влажным простыням, казалось, кто-то душит, стонали. Как по расписанию, каждый день, часа в два, тучи закрывали солнце, океан застывал в свинцовых сумерках, словно съеживался под занесенными над ним плетками ливня. Ливень бил сильно и коротко. И вновь зажигалось солнце, траулер окутывался паром, становилось еще хуже, чем до дождя.
Рыбы не было.
Наконец капитан приказал повернуть на север. Они шли к Зеленому мысу, и грозы отставали, лишь краем касаясь их, наплывали ясные, тихие дни, и, хотя свет и жар солнца были так же жестоки, это было уже другое солнце, пусть еще не ласковое, но более расположенное к людям. Север был для них самой дорогой страной света, потому что север был домом. Все понимали, что впереди еще долгие дни работы, но мысль о том, что каждый вздох машины приближает их к дому, не проходила, теплела рядом всегда, не мешая всем другим разным мыслям.
Как никогда, ждали теперь рыбу, ждали работу. Ругательски ругали гидроакустиков – "врагов трудового народа", замеряли без конца температуру воды и митинговали после каждого замера. Тралмейстер Губарев, повеселевший оттого, что бессмысленные поиски в Гвинейском заливе окончились, сидел целыми днями на корме, щурился на море и небо. Сашка сам носил ему на корму метеосводки. Губарев читал долго. Ребята из траловой стояли вокруг ждали. Прочитав сводку, тралмейстер молча возвращал ее Сашке. Далее следовала глубокая пауза.
– Ну как? – спрашивал наконец кто-нибудь из ребят.
– Что? – Губарев вроде бы и не понимал, о чем идет речь.
– Как сводка?
– Нормально.
Эта интермедия • повторялась многократно. Губарев знал цену своим словам.
Но однажды, прочитав сводку, он сказал, не ожидая вопроса:
– Завтра-послезавтра начнем брать.
– Эту песню мы слышали,- усмехнулся Голубь.- Старо. Свинку морскую надо было взять. Чтоб билетики таскала.
Губарев не удостоил Сережку даже поворотом головы.
– Голубь, птица моя кроткая,- тихо и ласково сказал Ваня Кавуненко,- я вот все думал: когда тебе по шее дать? И придумал: сейчас самое время.
– Оставь, Ваня,- поморщился Губарев, разглядывая горизонт.- Вон гляди, они лучше нас рыбачат.- Он кивнул в сторону моря.
Вдалеке, у самого горизонта, ясно угадывалось какое-то движение, вода там словно закипала, цвет ее, такой ровный и спокойный везде, менялся, становился резче, ярче, и на этом фоне были хорошо заметны маленькие, как запятые в книжке, черненькие прыгающие тела.
– Дельфин охотится. Значит, есть рыба. Только бы косяки не разогнал… Но я люблю их,- улыбнулся вдруг Губарев,- смышленый народ. Вот, помню, раз…
Пошли байки.
Вечером по всему траулеру разнеслась новость: приборы пишут рыбу. Гидроакустик Валя Кадюков бегал в столовой, размахивая лентой. Полоса густой штриховки, сработанная самописцем, показывала: косяк у самой поверхности, метрах в восьми – десяти. Все понимали, что тралом его зацепить никак невозможно и опять придется поносить акустиков.
– Но ведь он опустится, черт побери! – кричал Кадюков,- Ведь утром он уйдет на дно!
Кадюков провел в рубке у фишлупы всю ночь, все подбадривал черненькое жало самописца, шептал ему:
– Давай, родной, давай… Ну, еще… Самописец писал рыбу. Он рассказывал Кадюкову, что близится рассвет: черные полоски штриховки поползли вниз. Косяк уходил на дно по мере того, как светлело небо. Кадюков засмеялся странным смехом. Фофочка у штурвала вздрогнул и оглянулся на гидроакустика.