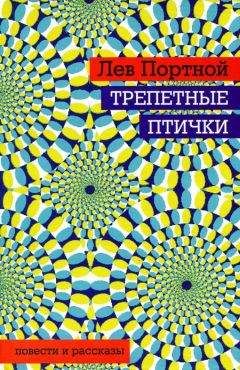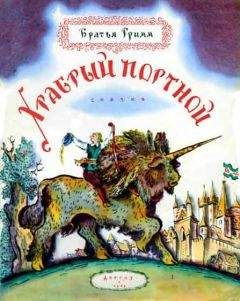Сергей Малицкий - Легко (сборник)
07
Кто я? Откуда эта наглость? Откуда эта самодостаточность? Откуда эти ясность и цинизм, исключающие метания и поиски предназначения? Или это самообман? Или я так старательно прячу свою неуверенность от окружающих, что, кажется, спрятал ее даже от самого себя? Что там скрывается внутри черепной коробки? Почему я так часто смотрю на себя со стороны как на другого человека? Или я существую одновременно в нескольких измерениях, и пятерня внутреннего самописца четко фиксирует кривые, не составляющие единого пульса? Прямой, но прерывистой и исчезающей линией любовь. Толстой с плавными изгибами-холмами любовь к самому себе. Мелкими зубчиками и синусоидами страх. Еще одна тонкая линия, как бы мечущаяся между небом и преисподней, боль. Конвульсирующая провалами и острыми пиками совесть. Совесть-то зачем? Для усиления болевых импульсов? Связь очевидна, но что она значит? Зачем мне совесть? Только для замедления погружения в ад преисподней? Или она нужна уже сейчас?
Ты помнишь? Это было вечность назад. Тогда я еще не узнавал тебя в этих бесчисленных лицах, фигурах и голосах. Но это была ты. И я уверен, что ты узнала меня тогда в том юном парне, вялом от бессонной летней ночи, которого ты проверяла на пригодность к временной работе на одном из последних массовых имперских столичных мероприятий. Ты дала мне несколько листков, на которых я должен был, отвечая на сотни вопросов, поставить крестики. Крестик «да» или крестик «нет». На каждой строчке. Я искренне отвечал на эти глупые вопросы. Самому интересен был результат. К тому же, лучший способ лжи — это полная искренность. Ни один детектор лжи не сможет уличить тебя в полной искренности. Сейчас я услышу, кто я. Ты взяла мои листки, накрыла их тестирующими таблицами с вырезанными отверстиями, подняла на меня глаза и с ужасом выдохнула:
— Вот это да! Первый раз встречаю такого законченного и абсолютного эгоиста.
Что же ты теперь преследуешь меня? Или ты забыла, что то юное чудовище был именно я? Чего ты добиваешься? Ты стучишь в мои двери, звонишь мне по телефону, встречаешься на улице, смотришь с экранов, приходишь во сне и никак не можешь понять, что единственное, чем я могу сполна поделиться с тобой, это любовь, смешанная с болью! Неужели ты все еще не поняла, что из этой смеси достанется тебе? Что ж, я открываю дверь, беру трубку, держу тебя за руку, смотрю сны. Ты этого хотела? Ты счастлива?
08
Для чего пишутся дневники? Великими — для документирования самих себя на фоне эпохи. Обывателями — для самоисповедования или тщеславия. Но и те, и другие, даже если и не способны признаться себе в этом, пишут, прежде всего, для возможного, а чаще желанного читателя. Странно. Выкладывание на страницы дневников своих мыслей и тайн напоминает укладывание в могилу предметов обихода, одежды и пищи. Словно жива еще надежда, что все это пригодится мертвецу в посмертном существовании. Любой дневник как разговор в космосе по радио за тысячу парсеков. Говоришь «привет» в микрофон и знаешь, что ответный привет придет через девятьсот лет после твоей смерти. Может быть, именно этим диктуется клиническая откровенность подобных летописей? Все ли можно писать? Простится ли смертному то, что великому может и в заслугу составиться? «Мне сорок лет». Положил ручку. А что он собственно напишет? А? Владимир Иванович? Посмотрел на себя в зеркало, укрепленное над письменным столом. Марина сказала, что зеркало дисциплинирует. Возможно. Только его оно огорчает. Судя по лицу, с дисциплиной и возрастом у него далеко не все в порядке. Сорок лет так и висят под глазами и подбородком. Как же он будет выглядеть еще лет через тридцать? А ведь когда-то и в футбол гонял, и кулаки пару лет сбивал о чужие подбородки в ближайшем спортзале. Что время с нашей помощью делает с нами? Ну, не начинать же повествование для своих потомков с сорока лет? С детства? Детство было замечательным. Но кому интересно, где он босыми ногами месил пыль и утаптывал крапиву? С трех лет на скрипке не играл, и в шахматы взрослых дядек не обыгрывал, и читать научился как все дети в школе и не сразу. Обычное детство. Ограничиться сухими данными: родился, крестился, женился? Так, может, определиться сразу, о чем он не напишет никогда и ни при каких обстоятельствах? Снова посмотрел в зеркало. Кто там? Кто-то незнакомый? Каждое утро приводим себя в порядок, смотрим на себя в зеркало и не смотрим в свои собственные глаза? Что же ты, Владимир Иванович? Что ты там увидел? Ну, не отводи глаз, не отводи. Другие смотрят на тебя каждый день. Чем ты лучше?
09
Может быть, я тебя выдумал? Я не рассказывал тебе, но в далеком прошлом, когда ты являлась мне исключительно с нимбом на голове и с крыльями за спиной, когда я еще не мог разглядеть твоей истинной красоты, не замечал отчетливых изъянов и скрытых пороков и украшал тебя красотой мнимой, придуманной мною самим, я испытал одно из самых больших разочарований в своей жизни. Я познакомился с тобой, был очарован твоей юностью и расстался с тобою на долгое время. Все это долгое время я писал тебе письма, каждое из которых было наивным, но искренним гимном красоты и любви. И каждое из этих писем добавляло в твой образ какие-то новые прекрасные грани таким образом, что, когда я, наконец, встретился с тобою подлинной, я не узнал тебя. Ты не совпала с образом, который я создал в своем воображении, и который жил своей независимой жизнью. Потом, через некоторое время, в первый раз уходя от тебя, я сжег эти письма, но не как свидетельство своего поражения, а как улику литературной слепоты. И теперь мне кажется, что я никогда не могу быть уверенным до конца, ты ли это снова приходишь в мою жизнь, или это только твоя тень, как таинственный корабль, носится по волнам моего извращенного воображения. Молчу. Способность ощущения звука и слова принимаю за способность творения. Открываю белый лист бумаги, более бездонный, чем космос, пишу обыкновенные знакомые слова, надеясь, что способ их соединения и переплетения друг с другом является непререкаемым доказательством собственной исключительности. Мой приятель заявляет, что я слишком нормален, чтобы быть гениальным. Он знает, о чем говорит. Он гений. Он сумасшедший. Он сменяет состояние запоя на состояние наркотической зависимости, он судит о звездах так, как будто бывал на этих звездах, он поет, как пьяный бог. Он извлекает из своего астматического горла отголоски проржавевших, но подлинных иерихонских труб. Мы все готовы рухнуть от его музыки, но падает он сам. Баланс гениальности и безумства неустойчив. Он занимает деньги на дозу, он уходит в никуда, чтобы быть гением в пустоте. Я слишком нормален. Я слишком правилен. Я пишу стихи, которые почти всегда противны мне самому. Я сочиняю музыку на слух, которого у меня нет. Но я несу внутри нечто, что своей скрытою легкостью позволяет мне подниматься над этой землей, не имея крыльев. Приятель. Неужели ты этого не замечаешь? Или то, что могу я, это всего лишь жалкая фантазия, и ты смотришь на меня сверху из своего черного облака, уверенный, что ты ближе к богу? Мы разные, но мы рядом. Два гения в одном месте и в одно время — событие из разряда невероятных. Значит, кому-то из нас суждено ошибиться. Или обоим. А что если мы всего лишь двое слепых, которые считают себя зрячими, потому что не были зрячими никогда?