Станислав Лем - Хрустальный шар (сборник)
Он наклонил голову.
– Да, это будто предел. И для меня это граница. – Он опять посмотрел мне в глаза. – Но нет! Это лишь заблуждение. Потому что я могу многое. Потому что я могу и сделаю эксперимент – большой прекрасный эксперимент, какого еще не делал никто, никогда. Хорошо?
Он усмехнулся с застывшей маской на лице, одними губами. Глаза отсвечивали стеклом и влагой. Он нажал черную кнопку звонка. Двери как бы сами раскрылись – ввели двух женщин.
То есть в первую минут я увидел только полосатую одежду с номерами, а что это были женщины, угадал, сам не знаю как: у них не было ни грудей, ни длинных волос, а только две пары глаз горели на провалившихся, сожженных голодом и мукой лицах.
– Будете переводить, – сказал он коротко, глядя не на меня, а на эсэсовца охраны. – Это две подружки из двенадцатого, да?
Эсэсовец возле дверей распрямился и пролаял:
– Jawohl![95] – Как железная кукла.
– Na also![96] Переводи.
И я начал по кусочку переводить на польский медленные, скупо выцеживаемые предложения. Я не буду стараться повторить их вам дословно, он сказал приблизительно так: «Мои дорогие женщины, вы знаете, кто я? Я комендант всего лагеря. Следовательно, имея над вами неограниченную власть, заявляю вам: я освобожу ту из вас, которая – другую – убьет. Ну, кто из вас соглашается?»
Я прервал перевод, но он взглянул на меня только раз, и я договорил предложение до конца. Две женщины, два обвисших мешка полосатых лохмотьев с темными лицами, не дрогнули. Или не поняли? Я добавил по-польски:
– Не верьте ему. Не слушайте.
– Эй! – рыкнул он на меня, одним прыжком перекидывая массивное туловище через стол. – Молчите! Ни слова, кроме того, что я сказал. Пожалуйста, еще раз сначала: переводите.
И снова отчетливо повторил свое предложение. Женщины стояли неподвижно. Тогда он встал, подошел к ним и с трудом, страшно уродуя польский язык, стараясь их уговорить, приблизился к одной, взял ее за безвольную руку – все напрасно. Что-то в ее глазах мерцало: страх, ненависть, голод, – не знаю… Они продолжали молчать.
Кестниц встал ко мне спиной, но на мгновение его лицо мелькнуло в стекле книжного шкафа. Выглядело это так, словно позади его головы находились следившие за мной глаза. Жуткий взгляд маленьких глазок, и мятое, нервно дрожащее лицо. Он двинулся к дверям.
– Ввести, – рявкнул Кестниц.
Эсэсовцы подтолкнули женщин. Ноги мои двинулись сами, клянусь вам, что сами. Я вошел в другую комнату.
Что за картина… это была самая кошмарная явь. Не комната, а клетка, сверху донизу залитая гладким бетоном, выкрашенным в красный цвет. Никакой мебели, ничего – только красный, матово сияющий куб помещения и кусочек закрытого решеткой неба под потолком. Пожалуй, это был лак, ибо откуда же взяться столь свежему цвету у крови?
Кестниц, высокий, толстый, в туго натянутом на животе мундире, повернулся и скомандовал что-то, чего я не понял. Один эсэсовец отклеился от двери и исчез. Воцарилась тишина, слышно было только дыхание присутствующих. Две женщины все время стояли апатично и неподвижно.
Тогда ввели третью, собственно говоря, как бы такую же самую на вид, может, только лицо у нее было более светлое, не знаю, потому что видел ее очень недолго. Широкие массивные плечи Кестница закрыли ее сразу, и он прижимал ее к красному бетону стены, когда его правая рука выхватила из кобуры револьвер. Сверкнул черный металл – женщина у стены не могла видеть оружие, но в глазах немца она разглядела, пожалуй, смерть. Потому что тонкий, беспомощный визг надорвал ей горло, потому что она заметалась под его взглядом, потому что… – Казимеж оборвал рассказ и закрыл лицо руками.
Через минуту, не отрывая их от глаз, он продолжил говорить глухо, понизив голос:
– Кестниц словно впал в экстаз или безумие, глядя на ее реакцию. Я не видел его лица, только туго обтянутую зеленым сукном страшную, ужасную на фоне красной стены спину, полусогнутую, дернувшуюся при звуке неожиданного выстрела. Вспышка, дым; мне в ноздри ударил острый запах пороховых газов. Некоторое время женщина, похожая на растянутую на стене подрагивающую тряпку, была неподвижна, а потом упала со стуком на пол, ударившись о него руками.
Кестниц повернулся к тем двум, по-прежнему так же неподвижно стоявшим узницам, и сказал:
– Ну, понимаете, женщины? Та из вас, которая прикончит вторую, получит свободу! Свободу!
Молчание.
Он впал в бешенство.
– А если нет, то прикажу обеих расстрелять! Сейчас же расстрелять.
Никакой реакции, тишина. И тогда Кестниц схватил руку одной женщины, ударил ею другую и толкнул их друг на друга. И сам не знаю, откуда что взялось, но через секунду по полу уже катался клубок сплетенных тел, и раздавались стоны, крики и хрип, и взметались в бессильной ярости кулаки. Красный туман застлал мне глаза, и я бросился вперед, получил прикладом в бок от эсэсовца и упал. Кестниц не обращал на меня внимания. Он смотрел, как это двуглавое, живое тело переворачивалось, как давило из последних сил, скрипело суставами, пока что-то там не хрустнуло, не поднялось вверх, – и вот одна уже сидит на другой, сдавливает коленями грудную клетку, душит и бьет, бьет, бьет…
Знаю только, что вдруг опять наступила тишина, но не та, что была перед этим. Кестниц стоял, смотрел: одна из женщин встала. На полу осталась маленькая распластанная кучка лохмотьев, и больше ничего. Только беспомощно раскрытые пальцы небольшой ладони обретали покой в расслаблении смерти.
– Ну… что, – сказал Кестниц, вновь обретая довольный голос исследователя. Он был полностью спокоен, безразлично посмотрел на ту, что встала, в разорванной одежде, сквозь которую просвечивало ее удивительно белое обнаженное тело, расцарапанное, все в налившихся кровоподтеках, и бросил лаконично в сторону двери:
– Wegführen![97]
Тогда, словно сжигаемая огнем, она подскочила к нему:
– Как это? Но ведь я… Нет, я теперь освобожденная! Я свободна…
Град ударов прервал ее лепет. Ее схватили за руки, за складки робы и вынесли. Мы остались одни. Я чувствовал нарастание опасности. Мое состояние я не пытаюсь даже описать. Просто повернул голову, и все закачалось, словно пол стал вдруг непрочным и мягким, но и этого еще было мало. Потому что в то же время я видел ясно и отчетливо, как Кестниц приближался, рос, надвигался, пока не вынудил меня посмотреть ему в глаза. Я боялся этого. Неимоверно боялся того, что было в этих глазах.
В них ничего не было. Спокойные голубые и влажные глаза в красных прорезях век… И он сказал, показывая желтые от табака зубы:
– Na… schön, nicht wahr?[98]
И открыл дверь в черно-зеленый кабинет. Толстую, оснащенную специальным замком дверь.

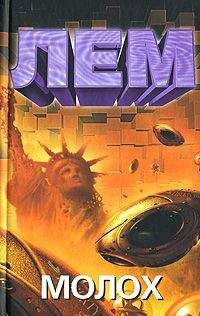

![Клайв Баркер - Племя тьмы [Авт. сборник]](/uploads/posts/books/85673/85673.jpg)
