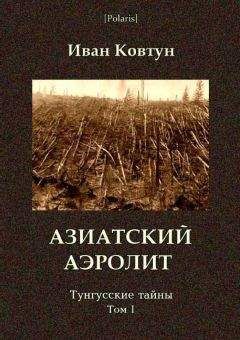Иван Ковтун - Азиатский аэролит
* * *
Еще утром администрация отеля отправила весь багаж в порт, формальности с документами уладили заранее, так что до отплытия парохода у Марича оставалось довольно
много времени. Это время он решил посвятить последней встрече с Гиной.
Марич боялся этого момента, пытался не думать о нем, гнал от себя все мысли, что хоть чем-нибудь могли напомнить о прошлом, знал, что сегодня он должен поставить над прошлым точку, и будет ему больно или нет — не важно, — обратного пути нет.
Он стал представлять, как пройдет их последняя встреча, как он открыто скажет ей простое слово — «прощай», крепко пожмет руку. Но как только он начинал думать об этом, мысли делались непослушными, не желали повиноваться придуманному им сценарию, начинали рисовать совсем иную картину прощания, нежную, болезненную, волнующую.
Марич стиснул зубы. Какая глупость. Будто два человека сидят в нем, враждебные и непримиримые, пытаясь обмануть друг друга.
Тогда он пошел на хитрость. За два часа до отплытия парохода решительно подошел к телефону. Как только протянул руку к аппарату, забренчал звонок. Удивленно подумал: «Кто может звонить?»
Алло!
Лицо побледнело, потом розовые пятна пошли по щекам. Узнал знакомый голос. Голос Гины звучал в ухе далеким нечеловеческим шепотом.
А знаете что? Я хочу вас видеть. У нас сегодня открытие, есть лишний билет, вы сможете быть, конечно?
Нет. Я сегодня уезжаю, — сказал и не узнал своего голоса, будто кто-то отвечал за него глухо и неровно.
Трубка безжизненно молчала. Стало слышно особенный, способный иногда испугать шелест тишины. Опять глухо:
Пароход уходит в 5.20, я буду ждать вас.
Трубка молчала. Напрасно он напряженно вслушивался. И только потом чей-то голос неожиданно прошептал:
Мисс Марич, вы так бледны, вам плохо?
Марича закружил на пристани водоворот толпы. В воздухе плотно сплелись раздраженные возгласы, слова прощания, приказы команды, рев сирен.
Грузный океанский гигант «Мажестик» тяжело сопел и нервно подрагивал. Пустая еще полчаса назад палуба гудела теперь людскими голосами, пассажиры перегибались через борт, складывали рупором ладони:
Джо, мальчик мой, не грусти!
Фифи, зачем прячешь глаза, ай-ай-ай, разве можно плакать!
Я пришлю телеграмму!
Джо, мальчик мой, слушайся маму, веди себя хорошо!
Ключи в комоде, ключи в комоде!
По другой бок парохода лежал Гудзонов залив, густо усеянный катерами, паромами, яхтами. Но туда никто не глядел, все глаза были прикованы к пристани.
Марич, сдавленный беспокойной, раздражительной толпой, не замечал шума и суеты. Ежеминутно вынимал часы, смотрел, не замечая цифр на циферблате, и повторял сам себе упрямо и строго:
Пятнадцать минут, пятнадцать минут.
Стрелка, спокойная и неумолимая, давно уже миновала цифру пять. «Пятнадцать минут, пятнадцать минут, — нервно выстукивали мысли, — пятнадцать минут».
Первый сигнал усилил гомон, суету и напряженность. Из трех черных труб повалил облаками рыхлый дым, похожий на хлопок.
Гины не было. Напрасно напрягал зрение, поворачивался во все стороны, бесстыдно всматривался в женские лица — бесполезно. Тело сжали безумные объятия тоски, раздавили заранее подготовленный, намеченный умом сценарий последней встречи.
Поднялся по крутому трапу, шатаясь, как после болезни, с трудом передвигая ноги, не веря себе. На палубе подошел к борту, вздрогнул и наклонился вперед.
К пристани бешено подскочило авто, из него стремительно выскочила знакомая женская фигура, и он скорее инстинктивно узнал Гину.
Поздно! «Мажестик» вздрогнул. У бортов зашумела вода и легла ржавой пропастью между пароходом и пристанью.
В бинокль видел широко раскрытые глаза, они быстро, как в тумане, исчезли, и фигура таяла и теряла очертания.
Далеко позади остались доки, корабельные мачты, Бруклинский мост; удалявшийся Нью-Йорк казался скалистым островом.
Марич слепо глядел вперед, ничего не видя, ничего не замечая. Он даже не заметил, как за минуту до отплытия парохода, вслед за авто, привезшим Гину, примчалось второе, из него легко выпрыгнул запоздавший пассажир среднего роста с небольшим коричневым чемоданчиком. Когда уже поднимали трап, он ловко и смело, под аплодисменты публики, перескочил через воду и очутился на пароходной лестнице.
* * *
Гина нетвердым шагом вошла в свою уборную, с трудом опустилась на диванчик. В зале бесновался джаз. В уборную долетали отдельные высокие ноты и грохот барабана. Голова устало упала на руки.
«Колумбия» тонула в электрическом ливне разноцветного огня. Световые рекламы пламенно чертили одно только слово: «Колумбия», «Колумбия», «Колумбия».
Джаз неистовствовал. Казалось, гудит метель, воет нечеловеческим стоном, точно так же, как восемь лет назад в глухой тайге. И так же кажется, что вокруг простирается страшная холодная пустота.
Гина вздрогнула. Напротив стояла тихая служанка:
Мисс, вам пора одеваться. Позвольте принести одежду.
Подняла глаза и покачала головой:
Нет, Эли, не надо. Я сегодня не выйду на сцену.
Лицо Эли передернул ужас: «Что говорит мисс? Мисс сошла с ума!»
Минуту спустя вбежал испуганный директор:
— Боже мой, что случилось? Мисс Марич, неужели вы хотите опозорить «Колумбию»?! Одну, одну песенку, только одну. Одну маленькую песенку! Сегодня у нас сливки Нью-Йорка. Не верю и верить не желаю! Через три минуты я вернусь. Уверен, мисс Марич будет уже одета.
Он озабоченно выбежал прочь.
Эли молча стояла и услужливо подавала одежду. Гина чувствовала, как билась в голове назойливая мысль: «До чего тоскливо, до чего тоскливо».
Служанка осторожно начала натягивать на ноги золотые туфельки, — ноги мисс были вялыми и безвольными.
…Черной пропастью показался глубокий знакомый зал. Гина подошла к самому краю; казалось, сделаешь шаг — и полетишь в бездну. Будто простерся безбрежный океан, а где-то вдали мигает огонек парохода. Вспомнила популярную уличную песенку про Мези и капитана Джо. И неожиданно даже для себя, Гина запела песенку о том, как Мези увидала на пристани капитана Джо, увидала и заплакала от радости. Затем капитан Джо улыбнулся Мези, и она заплакала от счастья, а когда капитан Джо отправился в поход — Мези зарыдала от горя.
Тихий мучительный финальный аккорд песни полетел в черный зал. И в тот же миг черный провал взорвался людским несдержанным ревом удовольствия, бешеными аплодисментами, дикими криками. Вежливые, тактичные джентльмены перегибались через стулья, бортики лож, кресла, широко разевая рты и издавая довольные звуки. Зал бушевал, зал буквально ревел от радости.