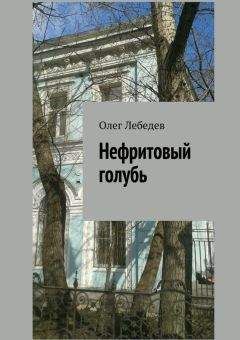Владимир Куличенко - Клуб города N
-Я рассматривал одну из гипотез, показавшуюся мне небезосновательной. Я видел результат, - тем паче, если отбросить частности, метод для медицины универсален.
- Согласен с вами и отдаю должное смелости, с какой вы бросаете вызов всеобщему лицемерию, - но, скажу прямо, побаиваюсь вас и не пожелаю себе стать вашим пациентом.
- Ваше право, - усмехнулся я.
- Прошу без саркастических усмешек - я их на дух не переношу! - резко бросил доцент, потом внезапно смягчился и добавил спокойнее: - Впрочем, и ваш покорный слуга склонен к сарказму.
Мы неспешно двигались по дорожке сада. В отдалении я приметил две женских фигуры. Сумский оставил в покое мою персону и принялся рассуждать о гуманизации медицины, о границе между научной любознательностью, профессиональным поиском и стремлением оказать помощь больному, обильно услащая свои умственные экзерсисы примерами из практики врачевания в период русско-японской кампании. "Для врача доброта и участие - все равно что экзодерма коры растений, выполняющая защитную функцию. У врачевателя доброта есть экзодерма его души, спасающая его же от погибели", - заявил престарелый доцент.
Меня удивляли банальные моралите вкупе с вялыми разглагольствованиями о смысле бытия. Я молчал, не понимая, куда он клонит.
За садом тянулись дворовые постройки. Выбежала испуганная хавронья, за ней мчался мальчуган в портках, с визгом рассекая воздух хворостиной.
- А знаете ли вы, - Сумский внезапно придержал меня за руку, - что глаза свиньи до изумления похожи на человеческие?
- И печень, и сердце...- добавил я.
- Тогда предположите, милейший Павел Дмитриевич, что в полку наших предков прибыло. А я ведь имею знакомства со многими, так сказать, людьми, каковые, открою вам, ближе к свиньям стоят. Да-с, разве что не хрюкают... Надо бы уходить отсюда, уходить, - вдруг пробормотал он себе под нос.
- Куда вы, Петр Валерьянович, наладились? - вырвалось у меня.
- Пора, пора, - ответил он и призывно махнул рукой сестрам, следовавшим за нами в отдалении; попрощался, крепко стиснул мою ладонь и по-молодецки лихо переставляя палку, в коей он, по первому подозрению, не испытывал нужды, устремился к воротам сада.
В этом городе темень наваливалась медведем, беззвучно, внезапно, всеохватно. Город разом с улицами, торговой площадью, рекой и домами точно проваливался в котловину. Смолкали звуки, и даже звездный свет был приглушен. Я начинал чувствовать, что в моей жизни, доселе, в сущности, малоценной и бессмысленной, появилась смутная потребность каждодневного сосуществования. Произошло это потому, что я начал посредством каких-то неуловимых флюидов обнаруживать, что, помимо меня, поблизости есть еще некто не именуемый или нечто, опосредованным образом связанное со мной. Большего пока я не мог определить. Это чувство возникало вдруг - на улице, во дворе ли, в комнате, у окна в минуты раздумий, бдения или тревоги. Я не испытал близости с тем, чье присутствие ощущал, но и не ощущал протеста, желания отторгнуться. Порой мне казалось, что все это чепуха, следствие душевного переутомления, моей извечной нервозности. Я шел в трактир, где выпивал пару шуфелей пива, смеялся и хлопал по плечу услужливого полового. Но когда я поутру просыпался, когда еще силы лжи были слабы во мне, а сила правды, рождаемая интуицией, велика, я снова ощущал поблизости присутствие этого нечто.
Временами я садился за письма - тетушке в Кострому, капитану Тарасову в Ревель. Капитан был давнишним моим знакомцем, некогда служившим на учебных трубных судах. Я вылечил его от припадков безудержного гнева, явившихся следствием перенесенной Адисоновой болезни. И вот однажды, излагая скупые строки, я увидел, что моя рука выводит часто не те слова, которые я намеревался донести, что я пишу не совсем то, что хотел, выражаюсь не присущими мне словесами. Сие наблюдение было столь изумительным, что, перечитав письма, я посчитал нужным порвать их. Совершил я экзекуцию с великим наслаждением, безмерно радуясь тому, что мои мысли, способность самооценки еще принадлежат мне. Кто-то покушался на мою свободу неотступно, с навязчивостью волны, настигавшей другую волну. Но кого могла заинтересовать моя персона, кому я нужен? Любые предположения представлялись нелепыми и вызывали во мне приливы нервного смеха.
...Ночи, долгие ночи, когда кажется, что жизнь остановилась, как в высшей точке циферблата замирает стрелка часов, чтобы сорваться вниз. Но меня срывала вниз некая чуждая мне сила, грубо, бесцеремонно, так что я порой бывал ошарашен. Я не могу найти объяснения собственным поступкам! К примеру, намедни я без причины плюнул в лицо Ермилу, а нынче поутру - я знаю наверно - проснусь и проведу ножом по предплечью. Даже нет, к чему дожидаться рассвета, я немедля встану и возьму нож - я нестерпимо жажду этого. Приняв решение, я взял нож с мойки и, подавив мимолетное колебание, приставил лезвие к мышце предплечья - зеркало отобразило мой голый торс, впалую тощую грудь, судорожно сжатые губы и ненавистный отблеск в черных глазах. Разве этот психопатический тип - есть я?
В предвкушении я надавил и повел ножом - внезапная боль напоила сердце божественным наслаждением, эта струящаяся лента крови как восхитительный нектар. Блики пламени перемежались на моем лице, открывшем новое праздничное чувство, недоступное мне прежде. Рука с окровавленным ножом стала замедленно и устало опускаться, и я залюбовался собой...
На другой день Ермил, глядя пристально, проговорил своим глуховатым, будто простуженным, голосом:
- Супружница моя нынче терла полы в ванной комнате - чай это вы, Павел Дмитриевич, накровянили? Дюже поранились?
- По неосторожности, - сказал я.
- Бывает, - пробормотал дворовый, нахмурясь, глядя исподлобья на меня.
_________
К училищу вели две дороги: ближняя, кочковатая, выводила закоулками, через железнодорожную ветку, к рабочей слободе и далее к пустырю, в северо-западной оконечности которого лежало кладбище. Вторая, окружная, вела многолюдной улицей через заселенные кварталы. Первая была короче, и обыкновенно я шел в училище через железнодорожный переезд, а возвращался городской улицей, делая в лавках покупки.
В те дни судьба свела меня с неким калекой, которого звали Пров. Он попадался мне на глаза и в городе у церковной паперти, и возле чугуночных путей, у пакгауза, сидящим перед кучей угля. Безногий, он передвигался на подвязанной ремнями к бедрам дубовой доске, метя дорожную пыль веником бороды, бранясь и плюясь, яростно вращая воспаленными глазищами.
- Мил человек! - кричал он, завидев проходящего. - Кинь копейку за ради Христа - спасителя нашего! Оторви от сердца ржавую копейку несчастливцу!