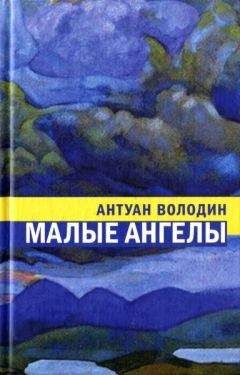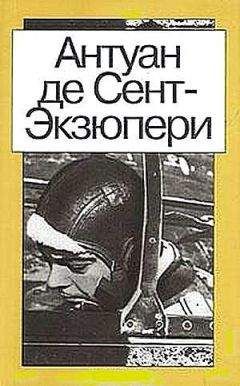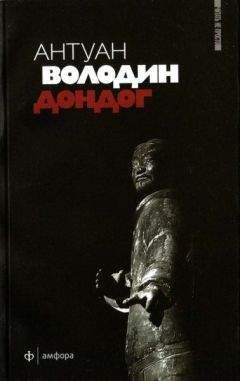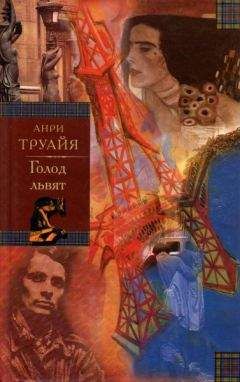Антуан Шоллье - Саргассово море
Мы вернулись в грот по дороге, шедшей вдоль моря; женщины начали раскладывать свою ношу, а я отправился в сторону, противоположную той, по которой пришел с женщинами.
В этот вечер изумрудно палевое небо отражалось в застывшей поверхности океана; слева от меня выступал холм с розовато-желтым пятном; я направился к темной массе, образованной рощей померанцевых деревьев; склон был усеян острыми камнями и глыбами базальта, придававшими ему дикий вид, представлявший такой контраст с песчаным берегом.
Подвигаясь вперед, я размышлял о своеобразии этого небольшого острова, уединенного среди беспредельного океана за две тысячи километров от всякой земли. Может быть, он являлся самой высшей точкой сказочного континента, Атлантиды, которая, по преданию, опустилась во время ужасной катастрофы на дно моря.
Я вступил в рощу. Вечер был мягкий; под напоенными теплом кущами деревьев все было полно аромата расцветающих померанцев, я медленно ступал по неясному ковру трав, раскинувшемуся в тени высоких стволов.
Между деревьев я разглядел двух людей, идущих мне навстречу. Они не заметили меня; занятые оживленным разговором, они прошли довольно близко, не обратив на меня никакого внимания. Это были молодые люди; в полумраке я рассмотрел только их общий облик эфебов, движущихся гармоничной ритмичной поступью; я расслышал несколько фраз из их разговора.
— Как бы ты к этому ни относился, Мэнилос, я считаю, что мы движемся по отношению к звездам, а наша солнечная система разве не подчинена закону тяготения по отношению к другим системам?
Голос их потерялся среди деревьев; я был поражен, услышав, что эти люди рассуждали о теории, которая так занимала внимание ученых мира, только что мной покинутого; какой странный контраст между образом жизни этих людей и утонченной культурой их ума!
Я вышел на опушку рощи; нить мыслей моих прервалась; прямо предо мной тянулась песчаная дорога, спускавшаяся к морю; с обеих сторон она была окаймлена рядом совершенно одинаковых памятников. Ночь окутала землю; луна, как серебряный шар, колебалась над морскими волнами, освещая дорогу; песок казался снегом, и светлая полоса, которую луна провела по океану, казалось, продолжала до бесконечности аллею, по которой я шел; справа и слева виднелись темные группы померанцевых деревьев, и на фоне их особенно ясно вырисовывались бледные плиты памятников.
Я подошел к одному из камней и с изумлением убедился, что нахожусь в Некрополе острова, что это — надгробные памятники, возвышающиеся по обе стороны этой, в своем роде, священной дороги; в ногах каждого памятника были высечены маленькие ниши, в которых стояли урны из обожженной глины; я разобрал на одной из плит греческую, по-видимому, очень древнюю, надпись; и я понял, что это стихи, оплакивающие неумолимый бег наших дней.
Я продолжал свой путь и вышел на пляж; я убедился, что прежде дорога тянулась дальше; море вследствие оседания земли, поглотило часть дороги; вершины двух памятников еще выступали из волн. Быть может, думал я, настанет день, когда океан совершенно поглотит этот странный остров, и весь остальной мир даже не будет подозревать о его существовании.
Я медленно пошел обратно, мою душу убаюкивали волны поэзии, охватившей меня в такой обстановке; я уселся, прислонясь спиной к одной из погребальных плит; я проникся величавым спокойствием Некрополя; я был восхищен этой традицией почитания мертвых, которая восходит к отдаленным временам зарождения древней Греции и протянулась через все века у этих людей, отказавшихся от всех культов, кроме культа Аполлона.
Перед моими полузакрытыми глазами мелькнуло что-то белое, выделившееся из мрака померанцевой рощи. Что это: материализация души всех этих мертвецов? Исполнение моего желания найти кого-нибудь, с кем я мог бы поделиться своими мыслями в эту минуту?
Фигура приближается, не замечая меня; при ясном лунном свете я узнал в ней Тозе. Почему же так усиленно забилось мое сердце? Почему я вдруг приподнялся? Почему простираются к ней мои руки? И почему стал таким нежным мой голос, когда я прошептал имя молодой женщины?
Она остановилась и без всякого колебания подошла ко мне:
— Как случилось, Главкос, — сказала она, — что ты находишься один в Некрополе в этот поздний час?
— Я пришел сюда, — объяснил я ей, — случайно, во время прогулки, но красота Некрополя меня очаровала и в тот момент, когда ты появилась, я пожелал встретить душу, которой я мог бы высказать то глубокое впечатление, которое произвела на меня эта аллея вековых могил, охраняемая меланхолической луной. Боги услышали мой немой призыв, потому что они направили твои стопы в мою сторону. Итак, садись рядом со мной, чтобы выполнить волю судьбы, которая нас соединила.
Она грациозно села, опершись затылком о ребро памятника, с глазами, устремленными к звездам, и медленно начала говорить:
— Я тоже, Главкос, люблю ночью приходить в большую аллею Некрополя; мне кажется, что я слышу, как голос минувших веков подымается из этих камней; и мне кажется, что я уже не так одинока среди беспредельной природы, когда во мне все трепещет в созвучии с заснувшими вокруг меня предками.
— Разве ты так одинока в жизни, Тозе, что принуждена искать опоры у покойников?
— Тише, моя мать еще жива, — ответила она, — у меня есть любимые подруги, но они меня не понимают, находят меня странной и смеются надо мной. Часто меня, неизвестно почему, охватывает тоска. Что-то живет во мне, чего подавить я не могу. Что это, — я объяснить не могу, но это сильнее моего разума; иногда мне хочется поверить другим то, что угнетает мои мысли, но когда я пытаюсь высказать, что делается в моей мятущейся душе, на меня смотрят, как на варварку, смеются или упрекают. Ты тоже, конечно, найдешь меня смешной; не знаю, как я решилась высказать тебе мою слабость.
Я смотрю на нее; две слезинки блестят на ее ресницах; с нежностью наклоняюсь я к ней и кладу руку к ней на плечо:
— Я не нахожу ничего смешного в чувствах, о которых ты мне поведала, и я не понимаю ни твоей матери, ни подруг, если они смеются над печалью твоего сердца.
— Так ты не думаешь, — ответила она с изумлением, — что наше сердце источник заблуждений и что высшее в нашем существе должно уметь подавлять причину этой слабости?
Я вспомнил в этот момент слова Хрисанфа об уничтожении всякой чувствительности и чувственности в культуре у аполлонийцев, но я не предполагал, что это заходит так далеко, и с любопытством спросил:
— Итак, ты никого не любишь? У тебя нет ни жениха, ни супруга?
Она засмеялась:
— Неужели в твоей стране до сих пор еще есть женихи и мужья? Ваша цивилизация, значит, еще не преодолела этого варварского обычая любви? Здесь у нас всякое чувство рассматривается, как самая непристойная слабость, наиболее постыдное из всех ощущений; наш народ уже давно освободился от ига всяких страстей, которые делают человека мелким; мы не знаем любви, о которой говорят поэты древних времен; мы испытываем ужас и отвращение, слушая те места из творений, где говорится о чувствах, которые свергли с царского трона разум.