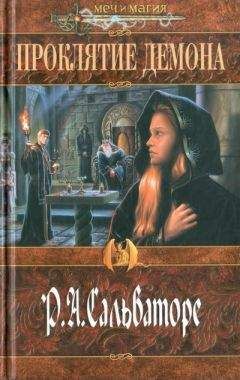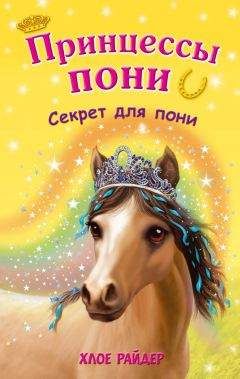Тед Чан - История твоей жизни (сборник)
Я прерываю работу. До того, как составить систему эстетических обозначений, надо определить словарь всех эмоций, которые я могу себе представить.
Мне знакомы многие эмоции, помимо эмоций обычных людей, и я вижу, насколько ограничен их эмоциональный диапазон. Я не отрицаю действенности любви и тревожного страха, которые когда-то испытывал, но вижу теперь их такими, как они есть: как увлечения и огорчения детства, они лишь предвестники того, что испытываю я сейчас. Мои страсти стали более многогранными: растет мое знание самого себя, и эмоции усложняются экспоненциально. Я должен уметь дать их полное описание, если собираюсь хотя бы приступить к ожидающей меня работе.
Конечно, на самом деле я испытываю куда меньше эмоций, чем мог бы: мой интеллект ограничен теми, кто меня окружает, и скудным взаимодействием, которое я себе разрешаю с ними иметь. Мне вспоминается конфуцианское понятие «рен»: это качество, неадекватно переводимое как «благожелательность», является квинтэссенциально человеческим, и его можно взрастить только взаимодействием с окружающими, одинокому его проявления недоступны. А вот я, а вокруг люди, повсюду люди, но ни одного, с кем взаимодействовать. Я — лишь доля того, чем может стать личность с моим интеллектом.
Я не обманываю себя ни жалостью к себе, ни тщеславием: я могу оценить свое психологическое состояние крайне объективно и последовательно. Я точно знаю, какие у меня есть эмоциональные ресурсы и каких нет и насколько я ценю каждый из них. Я ни о чем не сожалею.
Мой язык обретает форму. Он предназначен для гештальта — гештальт он представляет весьма удобно для мысли, но бесполезно для речи или письма. Его не переписать в виде линейно расположенных слов, разве что в виде огромной идеограммы, которую надо воспринимать как целое. Такая идеограмма может яснее картинки передать то, что не скажет тысяча слов. Изощренность каждой идеограммы была бы соизмерима с объемом содержащейся информации. Я развлекаюсь мыслью о колоссальной идеограмме, передающей всю вселенную.
Печатная страница для такого языка слишком неуклюжа и статична — единственным пригодным средством была бы голограмма, воспроизводящая графический образ, меняющийся во времени. Говорить на этом языке в принципе невозможно, учитывая ограниченную полосу частот человеческой гортани.
У меня в голове кипят ругательства древних и современных языков, они дразнят меня своей грубостью, напоминая, что мой идеальный язык содержал бы термины достаточно ядовитые, чтобы выразить мою теперешнюю досаду.
Мне не удается завершить этот искусственный язык — проект слишком масштабен для моих теперешних средств. Недели сосредоточенных усилий ничего полезного не дали. Я пытался писать самостоятельно, используя уже разработанные рудименты языка и создавая все более полные версии. Но каждая версия лишь яснее показывала свою неадекватность, заставляя меня расширять конечные цели, превращая их в Святой Грааль в конце расходящегося бесконечного регресса. Ничем не лучше, чем пытаться создать язык ex nihilo.[3]
А как же с четвертой ампулой? Никак не могу выкинуть ее из головы: любая неудача, на которую я натыкаюсь на своем нынешнем плато, напоминает мне о возможности более высоких вершин.
Конечно, есть серьезный риск. Инъекция может дать осложнения в виде повреждения мозга или безумия. Искушение от Дьявола, быть может, но все же искушение. И я не вижу причин сопротивляться.
Риск был бы меньше, если бы я сделал себе инъекцию в условиях больницы или если бы кто-то был в моей квартире. Однако я решаю, что инъекция либо будет успешной, либо вызовет необратимые повреждения, и потому обхожусь без этих предосторожностей.
Я заказываю аппаратуру у компании-поставщика медицинского оборудования и сам собираю прибор для интраспинальных инъекций. До полного эффекта могут пройти дни, а потому я запираю себя в спальне своей квартиры. Не исключено, что реакция у меня окажется бурной, и я убираю все бьющееся, а к кровати привязываю свободные петли. Соседи, если услышат, решат, что это воет наркоман.
Я делаю себе инъекцию и жду.
Мозг горит огнем, позвоночник прожигает спину, я почти в апоплексии. Ослеп, оглох, ничего не ощущаю.
И галлюцинирую. С такой противоестественной ясностью и резкостью, что это не могут не быть иллюзии, мерещатся мне несказанные кошмары, они нависают надо мной — сцены не физического насилия, но душевного увечья.
Ментальная агония — и оргазм. Ужас — и истерический смех.
На краткий миг возвращается восприятие. Я лежу на полу, вцепившись себе в волосы, и вырванные их пучки лежат рядом со мной. Одежда промокла от пота. Я прикусил язык, в горле горит — от крика, наверное. От судорог все тело в синяках, вероятно, есть и сотрясение, если судить по шишкам на затылке, но я ничего не чувствую. Часы прошли или мгновения?
И снова зрение затуманивается, и возвращается ревущий шум.
Критическая масса.
Откровение.
Я понимаю механизм собственного мышления. Я точно знаю, каким образом я знаю, и понимание стало рекурсивным. Я понимаю бесконечную регрессию самопознания — не бесконечным движением шаг за шагом, но постижением предела. Природа рекурсивного познания мне ясна. Слово «самосознание» обретает новое значение.
Fiat logos.[4] Я постигаю собственный разум в терминах языка такого выразительного, какого я никогда не мог себе вообразить. Как Бог, создающий порядок из хаоса словом, я создаю себя заново этим языком. Он мета-самоописывающийся и самоизменяющийся: он не только может описать мысль, он может описывать и изменять собственные операции, причем на всех уровнях. Что бы дал Гёдель, чтобы увидеть такой язык, где изменение предложения влечет за собой адаптивные изменения всей грамматики?
С этим языком я теперь понимаю, как работает мой разум. Я не притворяюсь, будто вижу, как срабатывают мои нейроны — оставлю такие заявки Джону Лилли и его экспериментам шестидесятых годов с ЛСД. Нет, я воспринимаю гештальты, я вижу, как создаются и взаимодействуют ментальные структуры. Я вижу, как думаю, и вижу уравнения, описывающие это мышление, и вижу себя, воспринимающего эти уравнения, и вижу, как уравнения описывают, что их кто-то воспринимает.
Я знаю, как из этих уравнений возникают мои мысли.
Вот эти.
Поначалу я ошеломлен свалившейся на меня информацией, парализован осознанием самого себя. Через несколько часов я научаюсь контролировать этот самоописывающийся поток. Я его не отфильтровал, не отодвинул в фоновый режим. Он соединился с моим мыслительным процессом и используется в процессе моей обычной деятельности. Еще не сразу я научусь извлекать из него пользу без усилий и действенно, как балерина, полностью владеющая своим телом.