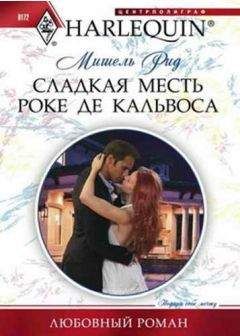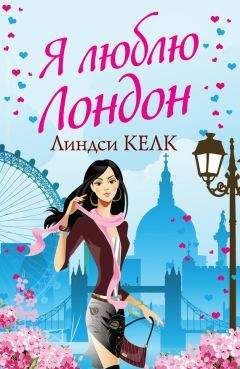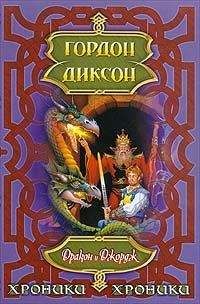Андрей Чертков - Миры Стругацких: Время учеников, XXI век. Важнейшее из искусств
— О'кей, — говорю я.
Мы выходим на широкую улицу. Машин немного, сейчас вечер, час пик уже позади. Начинает темнеть. Пасмурно, туманно.
— Мы направо, — говорит Бочонок.
Мне налево. Алене тоже. Интересно, пойдет ли она со мной или назло пойдет обходным путем?
Пожимаю руку сначала Кире, потом Бочонку. Милка хочет чмокнуть меня в щеку, я отстраняюсь. Она чмокает в щеку Алену. Алена машет остальным рукой.
Идем вдвоем. Прохладно, свежо.
Молчим.
Хочется сказать ей многое. Хочется сказать, что я ее люблю. Хочется сказать, что я хочу видеть ее около себя всегда. Что она самая прекрасная из всех девушек, которых я когда-либо видел. Хочется сказать так много.
Хочется ничего не говорить, а просто обнять ее, согреться о ее тело, впиться в нее, влиться. Смотреть ей в глаза, утыкаться носом в ее огненные волосы.
Алена улыбается сама себе.
— Пошли в кино сейчас, а? — глупо говорю я.
Сеанс через двадцать минут, до кинотеатра пять минут ходьбы.
— Мне надо домой, — говорит Алена.
Я точно знаю, что ей не надо домой. Ее родители уехали сейчас во Францию, к друзьям. У нее свободная квартира.
— Зачем? Родителей нет, — говорю я.
Она смотрит на меня. Прекрасно ведь понимает, что мне нужно. Прекрасно.
— Нет, Тима. Я не пойду с тобой в кино.
Ненавижу эту усмешку.
Она единственная девушка, которую хочется так сильно и которая так умеет издеваться. Сколько там от любви до ненависти?
Идем молча.
— Пока, — говорю я.
И сворачиваю в переулок. До моего дома еще идти и идти, но я лучше сделаю крюк. Я знаю, что поступаю глупо, что нужно делать что-то другое, но я не умею и не могу. Я даже не слышу, прощается ли она со мной.
2
Утро. Подъем. Восемь часов — я не умею спать дольше. Терпеть не могу валяться в кровати.
Вскакиваю рывком, встаю на руки. Так я тренирую вестибулярный аппарат. Меня почти не кружит. Пытаюсь отжаться, стоя на голове. Пока не получается, падаю на спину, но удачно: ничего не задеваю. Вчера задел велосипед, было больно.
Велосипед занимает полкомнаты. Отодвигаю его, достаю из шкафа свежие носки. Одеваюсь.
Мама еще спит: у нее была вчера ночная смена. Ужас: ночная смена в ночь с субботы на воскресенье.
Бреду на кухню, ставлю чайник, изготавливаю бутерброд с сыром. Пью чай.
На улице все так же пасмурно. Это хорошо: значит, можно снимать и сцены на открытом воздухе. По сценарию в Зоне всегда пасмурно.
Блин, завтра опять на пары. Но это завтра.
Мама проснулась. Слышу движение. Надо смотаться из дому, пока не начались расспросы типа: «Куда ты идешь?» или «Когда ты вернешься?» Иду в комнату, надеваю потертые вельветовые джинсы — в них я был вчера. Выкатываю велосипед в прихожую.
Из спальни выходит мама.
— Чего в такую рань? — спрашивает.
— Доброе утро, — говорю я. — Кататься.
Мама смотрит на меня, уходит в кухню.
Обуваюсь, выхожу. Мы живем на втором этаже, велосипед хороший, легкий, сбегаю вниз по лестнице. На улице прохладно, но через десять минут я вспотею от жары: я езжу быстро, не в прогулочном темпе.
Господи, когда асфальт переложат? Ни велосипеду не проехать, ни машине.
Разгоняюсь с горки. Рядом идут машины. В кармане звонит мобильник. Это Киря: тоже не спится.
— Привет.
— Здоров.
— У тебя веревка есть?
— А с твоей что?
— Я что-то ей не доверяю.
Да уж. Алене на этой веревке на высоте шестого этажа болтаться, а он не доверяет. У меня веревки нет.
— Нет, у меня нет. Поди да купи страховочную.
— Где денег взять?
— Ну, у Гаврика стрельни.
— Мысль.
— Давай.
— Давай.
Кладу мобильник в нагрудный карман. Говорят, вредно для сердца. Но я в это не верю.
Сворачиваю, пересекаю проезжую часть, кто-то сигналит. Оборачиваюсь. Урод, объехать велосипед ему трудно.
Я думаю об Алене. Настроение сразу портится. Если бы при внешности Алены у нее был характер Милки… Или, может быть, нет. В таком случае я вряд ли относился бы к ней так. Внешность — это одна из составляющих, верно?
Она меня откровенно отшила. Послала на хрен. Не знаю, даже не представлю, что делать в такой ситуации. Добиваться дальше? Можно сделать еще хуже. Бросить это? Сдаться? Не хочу.
По-моему, все потеряно только тогда, когда человека больше нет. Когда он умер. В любом другом случае всегда есть шанс. Даже если она выйдет замуж. Даже если уедет в какую-нибудь Зимбабве или Конго. Даже если будет меня ненавидеть.
Нужно вести себя как-то иначе.
Мое забытье прерывается, когда велосипед врезается во что-то, раздается крик. Я налетел на человека. Слава богу, не на большой скорости. Это девушка. Я бросаю велосипед, подбегаю, помогаю ей подняться, извиняюсь.
— Идиот! — кричит она. — Смотреть надо, куда едешь! По дороге едь, а не по тротуару!
Не люблю, когда говорят «едь». Правильно — «езжай», меня мама приучила.
Смотрю на девушку. Крашеная блондинка, старше меня лет на пять. Последние полгода провела, похоже, в солярии. Глаза накрашены черным, белый лак на ногтях. Одета в розовый костюм, теперь изрядно помятый. На бедре — грязное пятно от падения на тротуар.
Тьфу ты. Такой псевдогламур. Терпеть не могу.
— Смотри, что ты наделал! — показывает пятно на штанах.
Останавливается какая-то сердобольная старушенция.
— Разъездились тут! — начинает вопить тоже.
Останавливаются еще два человека: пожилой мужчина, похожий на профессора, и парень в косухе. Профессор начинает что-то гундеть.
Поднимаю велосипед, поворачиваюсь к девушке. Громко и отчетливо посылаю ее в задницу. Сажусь, уезжаю. Вслед раздается отборный мат.
Домой, наверное, возвращаться не буду. Катаюсь уже больше часа, так поеду сразу к цехам. За час доберусь, там еще час поболтаюсь, и время как раз придет.
Выезжаю на проспект. Машины проносятся мимо, улетают вперед. Люди исчезают позади.
Дома, магазины, улицы, перекрестки, светофоры, люди-люди-люди, это ведь все тоже Зона, только другая Зона, не мертвая, но живая, она повсюду, и каждый, кто однажды рождается, — сталкер, с самого рождения сталкер, маленький человечек в защитном костюме из розовой кожи. Он бросает гайки, чтобы провесить себе маршрут по этому городу, по этой жизни. Справа лежит Очкарик, слева лежит Пудель, а маленький человек проходит посредине, поступает в институт, женится, вертится-крутится и постоянно оставляет за собой дерьмо, все это дерьмо, которое разгребают потом другие люди, такие же маленькие люди, которые тоже женятся, крутятся, и поступают, и оставляют за собой… И так — вечно.