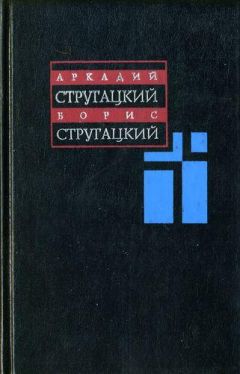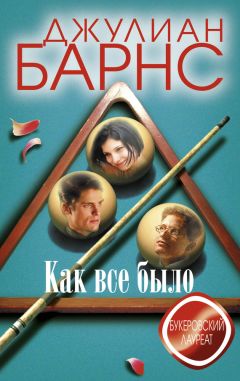Аркадий Стругацкий - Том 9. 1985-1990
— Он мне надоел, — произносит Наташа со странным выражением.
— Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны... Отсвечивать здесь у тебя не будет... Пожалей!
— Хорошо, я подумаю.
— Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю...
— Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.
— Не зайдет! — произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. — Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!
— Только не в зубах, пожалуйста, — очень серьезно возражает Наташа.
Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:
— Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.
Друг отзывается с мрачноватым юмором:
— А мои по четыре не возьмешь?
Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.
Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре.
Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается — с лязгом и дребезгом.
Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.
Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка.
— Странные у вас тут дела происходят... — произносит Феликс в пространство.
Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.
В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице.
— Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! — рокочет он. — Дела? Заботы? Труды?
— Труды, вашество, труды, — невнимательно отзывается Феликс. — А равномерно и заботы... А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только...
— Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего — беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут...
— Спасибо, Пал Палыч, вижу... Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?
— Сделаем.
В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.
— Шляпа, дырявые руки, — с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.
Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более — нужного человека.
— Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, — произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. — Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала...
Феликс трясет головой.
— Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял... Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с бухты-барахты... Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше — за две... Ты сам подумай: разве это мыслимо — за ночь статью написать?
— Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю... Печатаю все, что ты пишешь... Но оперативности у тебя нет!
— Так я же не газетчик! Я — писатель!
— Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого... Курдюкова Котьку... Знаю, поэт посредственный и даже неважный... Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» — будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится — и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева...» Или еще что-нибудь в этом роде.
Феликс спохватывается.
— Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там...
— Где? — кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.
В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова.
— Зоечка, это я, Феликс... Ну, как там Костя вообще?
— Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала... Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли...
— Обязательно. А как же... А как он вообще?
— Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит.
— Да? Н-ну... Завтра, наверное. Ближе к вечеру...
— Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович — скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.
— Сегодня? Хм... — мямлит Феликс. — Сегодня-то я никак... Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.
Зоя не слушает его.
— А если не позвонит, говорит, — продолжает она, — то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс... И важное, и срочное...
— Ах, черт, как неудобно получается!..
— Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой... Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут!
— Ну ладно, ну хорошо, что ж делать...
Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.
Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет — все ушли на телевизор смотреть футбол.
Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова: