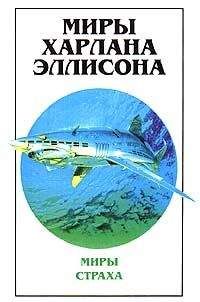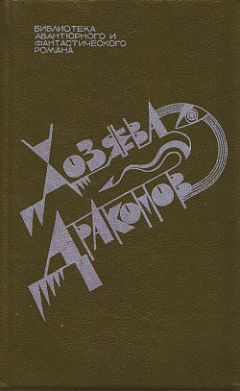Харлан Эллисон - Все звуки страха (сборник)
— Ладно, валяй дальше, — только и выговорил Поль. Жоржетта ехидно заметила, что сказать ей больше нечего, что она ожидала его звонка и заранее знала, зачем он позвонит.
— Слушай, Жоржетта, у меня тут… ну, у меня тут это… такое, значит, дело… просто позарез надо с кем-нибудь обсудить… вот я и решил, что только ты и поймешь… знаешь, у меня тут… а-а, черт…
Она тут же ответила, что знакомого акушера у нее не имеется, а если он обрюхатил одну из своих прошмандовок, то пусть воспользуется, к примеру, крючком от вешалки — и непременно заржавленным.
— Да нет же! Нет, дрянь ты безмозглая! Тут совсем не то! Не то! И вообще! Падла! Какого хрена тебя волнует, с кем я сплю? Эта тропка годится Для нас обоих… — И тут Поль осекся. Именно так всегда и начинались все их перепалки… С одного на другое — как горные козы со скалы на скалу, — и оба уже забывали о том, с чего начали, только бы терзать и рвать друг друга зубами из-за какойнибудь ерунды.
— Ну пожалуйста, Жоржетга! Пожалуйста! Тут… тут какое-то существо… У меня тут в квартире что-то такое поселилось.
Она решила, что Поль спятил. О чем вообще речь?
— Не знаю. Не знаю я, что это такое. Оно что — вроде паука? Или медведя? Какое оно?
— Вроде медведя, Жоржетта, только… да нет, совсем другое. Правда не знаю какое. И ничего не говорит — лежит и сверлит меня глазами…
Ну и кто он после этого? Псих или просто скотина? Медведи не разговаривают! Ну, разве что те, которых по телевизору показывают. А вот кто он после всего этого? Разыгрывает тут дурацкие сцены, психом прикидывается.
И все — лишь бы зацапать положенные ей по суду выплаты. Но странно. Чего это он, затевая такую игру, первым делом ей же и позвонил?
— По-моему, Поль, ты просто придуриваешься. Я всегда говорила, что ты проходимец. А теперь ты и сам это подтверждаешь.
Щелчок в трубке — и Поль остался один.
Нет, не один.
Закуривая сигарету, он самым краешком глаза глянул в угол. Громадная тварь — грязно-бурая, мохнатая — явилась за ним следить, сгрудилась у платяного шкафа. Страшные лапы скрещены на массивной груди. Вроде огромного северного медведя, но совсем другая — мощной трапецевидной туши не избежать ни взглядом, ни мыслью. Золотые диски глаз — дикие, безумные — не вспыхивают — только недвижно созерцают.
(Описание никуда не годится. Забудьте. Тварь была совсем другая. Просто ничего похожего.)
И Поль чувствовал безмолвный укор — даже когда закрылся в ванной. Сидел на краю ванны, пустив горячую воду, пока зеркало не запртело сверху донизу, и он уже не мог видеть там своего лица — не мог видеть безумного блеска своих глаз, таких знакомых и так похожих на слепые глазницы обосновавшейся в комнате твари. Мысли сперва. бежали, потом, будто лава, текли — и наконец застыли.
И тут Поль вдруг понял, что не помнит лица ни одной из женщин, приходивших к нему в квартиру. Ни единого лица. Все они оставались для него безлики. Поль не смог припомнить даже лица Жоржетты. Просто ни единого лица! Все они были для него лишены выражения — или хоть чего-то запоминающегося! Господи, сколько же безликих трупов пришлось ему засеять! К горлу подступила блевотина, и он понял, что должен немедленно выбраться отсюда — прочь, прочь из этой квартиры, прочь от чудовища в углу!
Поль вывалился из ванной. Потом, покачиваясь и обтирая стены, добрался до входной двери — и прижался спиной к запертой плите добротной древесины, втягивая в себя мучительные глотки воздуха и постепенно понимая, что теперь ему так просто не выбраться. Когда он вернется, тварь все равно будет его поджидать — когда бы он ни вернулся.
И все-таки Поль ушел. Сначала — какой-то бар, где ставили только Синатру — и Поль, впитав в себя столько слезливой тоски и жалости к своей горькой судьбине, сколько смог, окончательно пришел в экстаз от того места, где певец в сопровождении оркестра вытягивал:
Ax, как мне забыть
Годы юных грез,
Что оставили
Только четки слез!
Потом другое место — вроде бы пляж, — и Поль стоял на песчаном берегу — внутри звенела пустота а чайки кружили над ним в черном небе и визжали «кри-кри-кри» совсем сводя его с ума — нагибаясь он погружал руки в песок и швырял полные горсти песчаной тьмы вверх — вверх — туда — только бы прикончить этих поганых каркающих ведьм!
Потом еще какое-то место — с говорящими огнями — огни произносили всякие слова — невразумительные слова — неоновые слова — вроде бы отпускали грязные замечания — но Поль так толком ничего и не разобрал.
(Один раз ему вдруг показалось — он заметил маскарадных гуляк из сновидения — холодный пот тут же заструился по спине — и Поль мигом скрылся.)
Когда он наконец вернулся к дверям своей квартиры, то прихваченная им бабенка побожилась, что, хоть она, ясное дело, не телескоп, но уж — будь спок! — глянет, чего он там хочет ей показать, — и сразу разберет, чего там такое. Когда шлюха так уверенно об этом заявила, Поль, решив на нее положиться, повернул в замке ключ и отворил дверь. Потом протянул руку за косяк и включил свет. Да… да… вот она… ну вот же она… эта тварь… все верно… вот… говорил же… вот она… и пристальный взгляд… вот она!
— Ну? — чуть ли не с гордостью вопросил Поль, указывая в угол.
— Что «ну»? — отозвалась шлюха.
— Ну, как насчет вон того?
— Чего вон того?
— Да вон того, вон того, блин! Я вон про то тебе, сука, толкую! Вон оно! Вон там!
— Знаш, Сид, у тебя, кажись, крыша поехала.
— Знаш, гнида, я ведь не Сид! И не шмизди, сучье вымя, что ни хрена там не видишь!
— Дак сам же сказал, что Сид, и почему тебе не быть Сидом, а я там ни хрена не вижу, и чего тут топтаться, давай ляжем куда помягче, а если пока не в кайф, то так и скажи — пропустим еще по маленькой, и будет то самое, что доктор про…
Тут Поль, с диким воплем вцепившись шлюхе в физиономию, швырнул ее вниз по лестнице.
— Пошла на хрен, падла! Катись ко гребаной матери!
И шлюха кое-как утопала — а Поль опять остался наедине с той тварью, которая, впрочем, никак не отреагировала на перепалку. Лишь сидела с неумолимым спокойствием, ожидая того последнего мгновения, когда сможет наконец вырваться из плена вменяемости.
Так они вдвоем трепетали в каком-то нервном симбиозе — и каждый отчаянно старался отделиться от другого. Человека покрывала тончайшая пленка ужаса и отчаяния, а внутри у него, подобно густому черному дыму, клубилась чудовищная боль одиночества. Тварь порождала любовь — а он пожинал лишь одиночество. Одиночество и страдание.
Поль остался в квартире один — и их было двое. Он сам… и та грязно-бурая тварь с угрожающе-пристальным взглядом — воплощение его душевных мук.