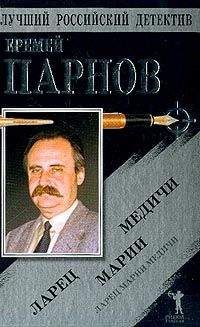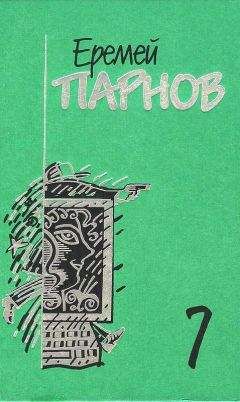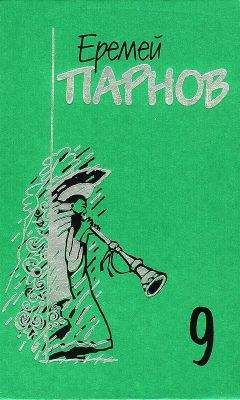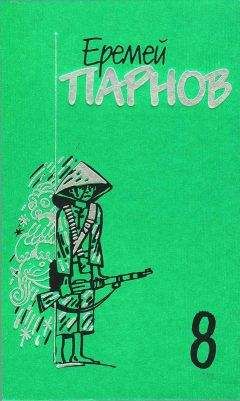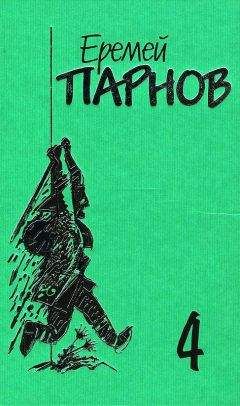Еремей Парнов - Собрание сочинений в 10 томах. Том 1. Ларец Марии Медичи
— «…Когда боги хотят покарать человека, они лишают его рассудка» — так, кажется, говорили древние? — Граф Семен Романович Воронцов элегантно откинулся в кресле. От его англизированной сухопарой фигуры, затянутой в черный фрак с высоким кружевным жабо, веяло чопорностью и отчужденностью.
Александр беспокойно глянул на собеседника.
— Ваши слова, граф, — он едва уловимо покосился на дверь, — могут быть дурно истолкованы.
— Мэй ай континью ин инглиш, еа хайнес?[33] — чуть понизив голос, осведомился Воронцов.
Александр кивнул. Далее разговор протекал исключительно на английском языке.
— Атмосфера, царящая при нашем дворе, поистине несносна и огорчает многих. В результате дворяне толпами покидают службу, что не замедлило отразиться на составе администрации. Так, например, из ста тридцати двух офицеров конногвардейского полка, состоявших на службе в момент воцарения его императорского величества, осталось лишь двое. Зато подпоручики девяносто шестого года ныне стали полковниками. В Лондоне, кстати, о том превосходно осведомлены… Должен сказать в этой связи, что вообще сближение с корсиканским выскочкой Буонапарте вызывает осуждение и тревогу британского правительства. Тем более что по данным сэра Френсиса Дрейка в самой Франции зреет недовольство. Вам известно о покушении в декабре прошлого года?
— Говорят, что бомба была английского производства? — бесстрастно заметил Александр.
— Но бросали ее французы, — спокойно парировал Воронцов. — Видимо, недалек тот день, когда во Францию вернется законный монарх… И тогда нынешнее покровительство корсиканцу будет выглядеть весьма двусмысленно. Будущему императору Российскому придется…
Александр взглядом остановил увлекшегося посла.
— Его величество сам соизволил установить порядок престолонаследия, — зашел с другого бока опытный дипломат. — Трон переходит к старшему сыну или к его первенцу… — он не договорил, словно намекая на распространившиеся в последние дни слухи о том, что государь намерен усыновить выписанного из Германии племянника императрицы Марии Федоровны, тринадцатилетнего принца вюртембергского Евгения, и даже как будто передать ему впоследствии престол. Александр об этом, разумеется, знал, но даже вида не подал, что понял невысказанное предостережение.
— Молю Бога, чтобы он продлил дни государя, — склонил голову цесаревич.
— И я уповаю на это, — прикрыл глаза Воронцов. — И я…
В ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта 1801 года император Павел при загадочных обстоятельствах скончался в своем неприступном Михайловском дворце.
Наполеон, узнав о смерти Павла, изрек:
— Англичане промахнулись по мне в Париже, но попали в Петербурге.
Корпус под командой атамана Донского войска генерала Орлова, состоящий из 22 507 человек с двенадцатью единорогами и столькими же пушками, посланный царем в Индию, к тому времени окончательно застрял в среднеазиатских песках. Люди умирали сотнями. Стаи грифов тучами кружились над обреченным на смерть войском. Шакалы бежали ночами по его следам.
Едва ли не первым деянием нового государя был приказ воротить последних, оставшихся в живых, русских воинов. Подобное решение, сопровождавшее неизбежный пересмотр политической ориентации, лишь увеличило непритворную скорбь будущего императора французов. Однако бывший епископ Отенский, а ныне герцог Беневентский Шарль-Морис князь де Талейран не выразил особого огорчения по поводу неблагоприятных для Франции перемен. Да и что ему было печалиться, коли лично для него все осталось по-прежнему.
Как то было при Павле, он и при Александре продолжал снабжать русскую дипломатию, разумеется, за чистопробное золото, сведениями самого деликатного свойства. Что значила подобная малость для человека, который много лет радовал австрийский двор тайнами тех же русских, да еще заодно с секретами Франции, Пруссии и прочих держав? Для человека, который подсовывал затем свой утративший первую свежесть товар пруссакам? Именно этот разносторонний искусник и значился в списках русской разведки под кличкой «Анна Ивановна»… С подобной дамой ухо надо было держать востро. Недаром, когда Талейран наконец скончался, один из его приятелей меланхолично спросил: «Интересно знать, зачем ему это понадобилось?»
К числу сведений, запрошенных Павлом, но полученных уже Александром, были и бумаги, касающиеся рода де Кальве. Талейран передал их все скопом: родословное древо, украшенное геральдическими фигурами, дворянские грамоты и письма многих поколений, приватные мемуары, всевозможные счета и семейные предания.
«Предвечный отче! Мать святая
И ты, поправший смертью смерть!
Лучами близкого свиданья
Ужель не озарится твердь?»
Лесистый окоем раздольный
Горит в скрещении мечей,
Как светозарный Треугольник,
Как зрак в сиянии лучей.
Роса и луг и дол омыла,
А все не разглядеть никак
Сквозь облачко, что нежно скрыло
Надмирной власти высший знак.
Когда ж сукровицей заката
Зеница Божья истекла,
Сокрылась вечная загадка
Во тьму витражного стекла.
Во мглу капеллы, арок, башен
И в пустоту настенных лат,
Не потому ли, вещ и страшен,
Над бургом ширился набат?
Иная стража заступала…
Ее приветствуя приход,
Змея касанием ласкала
Одетый крепом эшафот.
«Князь тьмы! Единственную милость
Знаменье сущности иной!»
И огненным трезубцем мнилась
Зарницы вспышка над скалой.
Над той базальтовой постелью
С дремучей хвоей, рыжим мхом,
Отмеченной незримой тенью,
Благоухающей грехом.
Когда ж, как Матер Долороза,
Луна свой подала намек,
Зажглись на паутинках росы
И розы скорбный лоск поблек.
Ни солнца жар, ни трепет молний
Так глубоко не проникал
В колодец графской гладоморни,
Как этот пепельный накал.
Казалось, будто покрывала
Судеб в тот миг приподнялись
И все концы, и все начала
Во всепрощении слились.
Из знаков всех, из тайных, мудрых,
То был отчетливейший знак,
Что не пределом станет утро,
Не палача последний взмах.
Что за мучительной границей
Иная распахнется даль,
И коль ничто не сохранится.
Пребудет в вечности печаль…
Как хладен мрамор был в капелле!
Как мертв распятый на кресте!
И лишь потертости блестели
На склепа бронзовой плите.
Не там, не там! В пространствах ночи
Мелькнул неизреченный свет,
И пусть неверен, пусть непрочен
Его запечатлелся след.
Хоть неподвластен перемене
Ход ночи в прорезях бойниц,
Кассиопея, как знаменье,
Пять звезд повесила на шпиц.
И молнии пронзили выси
Над той базальтовой плитой,
И в камышах был выклик выпи
Наполнен бабьей маетой.
Скользили звери зодиака,
И воском капала свеча
На Девы бюст, на клешню Рака,
Пометив домик палача.
Там темной кровью отливала
Маркграфа тяжкая печать,
Которую тесьма качала,
Как колыбель качает мать.
Под этот ритм вращались сферы
И тщились воды в море течь.
Так подчиняются размеру
Стиха и маятник, и меч.
Когда же голову и тело
В капеллу тихо занесли,
На дубе вещая омела
Качалась в золотой пыли.
Был мрамор витражом окрашен,
А у гвоздем пробитых ног,
В густой тени зубчатых башен,
Лежало то, что принял Бог.
И хоть ничто не изменилось
На каменном его лице,
Пять тихих звездочек светилось
Меж острых терний на венце.
А в полночь вместо звезд знакомых,
Чертивших литер «дубль ве»,
Взошел трезубец незаконный.
О чем поведал де Кальве.
Алхимик и астролог вместе,
Известный, впрочем, как хронист.
Его правдивости и чести
Пергаментный свидетель лист.
Глава 31