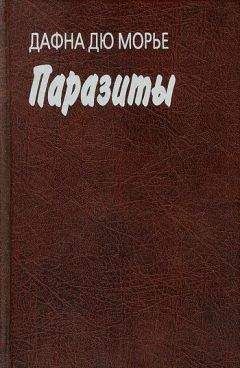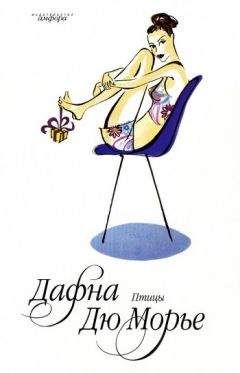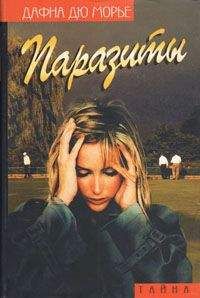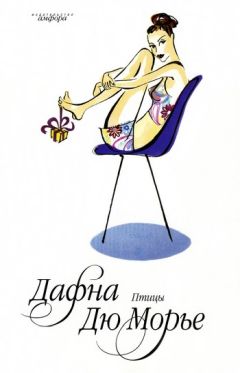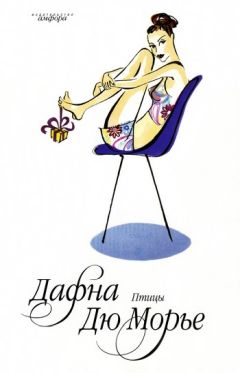Морье Дю - Паразиты
Du clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prete-moi ta plume,
Pour ecrir un mot.
Ma chandelle est mort,
Je n'ai plus de feu.
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.*
*Погасла вдруг свечка,
Дружок мой Пьеро.
Черкну я словечко,
Готовь мне перо.
Стою в лунном свете,
У самых дверей.
Ты мне, ради Бога,
Открой поскорей.
Тихо пела Мария чистым детским голосом; она единственная из нас троих помнила слова.
- Найэл, ты обычно играл ее, - сказала она, - в той нелепой маленькой душной гостиной на вилле, пока мы все сидели на веранде. Ты повторял ее снова и снова. Почему?
- Не знаю, - сказал Найэл. - Не помню.
- Папа часто ее пел, - сказала Селия, - когда мы уходили спать. У нас была сетка от москитов. Мама обычно лежала в шезлонге в том белом платье и вместо веера обмахивалась хлопушкой для мух.
- Действительно, часто бывали грозы, теперь я вспомнила, - сказала Мария. - Всю лужайку заливало в какие-нибудь пять минут. Мы бегом поднимались с пляжа, задрав юбки на голову. Бывали и морские туманы. Маяк.
- Тот человек, который хотел написать для Мамы балет, - так и не поняв, что она презирает традиционный балет и танцует в своей индивидуальной манере, - как его звали? - спросила Селия.
- Мишель Как-То-Там-Еще, - сказал Найэл. - Он все время смотрел на Маму.
- Мишель Лафорж, - сказала Мария. - И на Маму он смотрел отнюдь не все время.
Мы помнили дом удивительно отчетливо и зримо. Он стоял невдалеке от скал, круто обрывающихся в море, отчего взбираться на них было опасно. Через сад к пляжу сбегала извилистая тропинка. Вокруг было много утесов, заводей, манящих и пробуждающих любопытство пещер, куда солнце просачивалось медленно, с трудом, словно дрожащий свет факела. На скалах росли дикие цветы. Морская гвоздика, армерия, бальзамия...
Глава 6
Когда опускался туман, день и ночь напролет выла сирена. Милях в трех от берега из моря выступала небольшая группа островов. Они были окружены скалами, и на них никто не жил: за ними высился маяк. Вой сирены доносился оттуда. Днем он не очень докучал нам, и мы вскоре привыкли к нему. Иное дело ночью. Приглушенный туманом вой звучал грозным предзнаменованием, повторяющимся со зловещей регулярностью. Ложась спать после ясного, теплого, без малейшего намека на туман дня, мы просыпались в предрассветные часы, и тот же заунывный, настойчивый звук, что разбудил нас, вновь нарушал тишину летней ночи. Мы старались представить себе, что его издает безобидное механическое устройство, приводимое в действие смотрителем маяка, как какая-нибудь машина или мотор, который можно включить руками. Но тщетно. До маяка было не добраться, бурное море и скалистые острова преграждали к нему путь. И голос сирены продолжал звучать как голос самой судьбы.
Папа и Мама перешли в запасную комнату виллы: Маме было нестерпимо тяжело просыпаться по ночам и слышать вой сирены. Вид из их новой комнаты был ничем не примечателен: окна выходили на огород и дорогу в деревню. К тому лету Мама устала больше обычного. Позади был долгий сезон. Всю зиму мы провели в Лондоне, на Пасху поехали в Рим, затем на май, июнь и июль в Париж. На осень планировалось продолжительное турне по Америке и Канаде. Поговаривали о том, что Найэл, а, возможно, и Мария пойдут в школу. Мы быстро росли и выходили из повиновения. По росту Мария уже догнала Маму, что, наверное, не так и много - Мама была невысокой, но когда на пляже Мария перепрыгивала с камня на камень или вытягивалась на каменистой площадке перед тем, как нырнуть, Папа как-то сказал, что мы и не заметили, как она за одну ночь превратилась в женщину. Нам стало грустно, особенно Марии. Она вовсе не хотела быть женщиной. Во всяком случае она ненавидела это слово. Само его звучание напоминало кого-то старого, вроде Труды, кого-то очень скучного и унылого, может быть, миссис Салливан, когда та делает покупки на Оксфорд-стрит, а потом несет их домой.
Мы сидели за столом на веранде и, потягивая через соломинку сидр, обсуждали этот вопрос.
- Нам надо что-нибудь принимать, чтобы остановить рост, - сказала Мария. - Джин или бренди.
- Слишком поздно, - сказал Найэл. - Даже если бы мы за взятку уговорили Андре или кого-то другого принести нам джин из деревни, он не подействует. Посмотри на свои ноги.
Мария вытянула длинные ноги под столом. Они были коричневые от загара, гладкие, с золотистыми шелковистыми волосками. Мария вдруг рассмеялась.
- В чем дело? - спросил Найэл.
- Помните, как позавчера вечером, после ужина, мы играли в vingtitun*, - сказала Мария. - Папа смешил нас рассказами о своей молодости в Вене, а у Мамы разболелась голова, и она рано легла спать; а потом из отеля пришел Мишель, и сел играть вместе с нами.
* Двадцать одно (фр.).
- Да, - сказала Селия. - Ему очень не везло в vingt et un. Он проиграл все свои деньги мне и Папе.
- Ну так догадайтесь, что он делал, - сказала Мария. - Он все время поглаживал мне ноги под столом. Я хихикала и боялась, что вы увидите.
- Довольно нахально, - сказал Найэл, - но мне кажется, он из тех людей, которые любят все гладить. Вы заметили, он вечно возится с кошками?
- Да, - сказала Селия, - возится. По-моему, он очень жеманный, и Папа тоже так думает. Мне кажется, что Маме он нравится.
- Он и в самом деле Мамин знакомый. Они все время разговаривают о балете, который он хочет написать для ее осеннего турне. Вчера они говорили о нем весь день. Что ты сделала, когда он стал гладить твои ноги? Дала ему пинка под столом?
Не вынимая соломинки изо рта и с довольным видом потягивая сидр, Мария покачала головой.
- Нет, - сказала она. - Мне было очень приятно.
Селия удивленно уставилась на нее, затем перевела взгляд на свои собственные ноги. Ей никогда не удавалось загореть так же хорошо, как Марии.
- В самом деле? - спросила она. - Я бы подумала, что это глупо. - Она наклонилась и погладила сперва свою ногу, потом ногу Марии.
- Когда ты гладишь, ощущение совсем не то, - сказала Мария. - Это не интересно. Вся соль в том, чтобы это делал человек, которого ты почти не знаешь. Как Мишель.
- Понимаю, - ответила Селия. Она была озадачена.
Найэл вытащил из кармана леденец на палочке и принялся задумчиво сосать его. Леденец пахнул грейпфрутом и был очень кислый.
Странное это было лето. Мы не играли в привычные игры. В католиков и гугенотов, в англичан и ирландцев*, в исследователей Амазонки. Всегда находились другие дела. Мария уходила бродить одна, знакомилась со взрослыми из отеля, вроде этого назойливого Мишеля, которому, должно быть, уже перевалило за тридцать, а Селия всем надоедала своим желанием научиться плавать. Она занималась с удивительным упорством, вкладывая в броски всю душу; громко считала их, потом выскакивала из воды и кричала "А сейчас сколько бросков? Уже лучше? Ну, посмотрите на меня, хоть кто-нибудь".