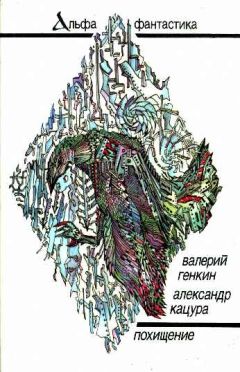Валерий Генкин - Похищение
— Да, ты явил великую милость Томасу Кромвелю. И сказал очередную историческую фразу: «Меня побудили казнить наиболее верного слугу из всех, которых я когда-либо имел». Все были жутко тронуты.
— Я любил Кромвеля! Меня заставили его убить!
— И всех его друзей? И семидесятилетнюю графиню Солсбери, виновную лишь в том, что происходила из рода Йорков, свергнутых полвека тому назад? Ну а последнюю жену, Екатерину Говард, ты мог бы пощадить — такая молоденькая, ей и двадцати не было.
— Я хотел помиловать ее на эшафоте. Это укрепило бы ее чувства ко мне, которые стали ослабевать в силу моего возраста.
— Но передумал?
— Стоя у плахи, она заявила, что всю жизнь любила простого дворянина и хотела быть его женою больше, чем королевой. Не обо мне вспоминала она на пороге смерти, она оплакивала свою любовь и недостойный ее объект, казненный мною накануне. Как мог я простить ее?
— И здесь зависть, Генрих. Зависть к Мору, к нежнейшему поэту графу Серрею, которому отрубили голову за неделю до твоей смерти, к Анне Болейн, к Томасу Кромвелю, к юной, полной любви Екатерине Говард… Вот какое чувство вело тебя, заставляло купаться в крови… Вот что тебе надо играть, Миха, всепожирающую, кровоточащую, беспросветную зависть. Это — доминанта роли. В твоей власти расцветить ее, придать глубину, снабдить оттенками, но не в ущерб главному. У тебя есть вопросы?
Льян, с трудом отделяя себя от Генриха, не отвечал.
— Хорошо, Миха. Встретимся завтра, продолжим разговор.
— В это же время, — прогудел Льян. Он кивнул Андрису, еще раз — в сторону Велько и Года и медленно удалился.
Андрис перехватил безучастный взгляд Года.
— Похоже, вам не по нутру такой разбор роли Генриха.
Год пожал плечами.
— Вам предстоит работать с Льяном. Вы видели его на экране? Как он вам показался?
— Я увидел его впервые сегодня. Сейчас. Он слишком покорен. Может быть, это удобно для режиссера.
— Вы не согласны, что режиссер должен дать актеру стержень, основную линию роли?
— В данном случае — зависть?
— Почему бы нет. История Генриха хорошо ложится в это русло.
Год встал и взялся рукой за подпорку навеса.
— Вы, Рервик, никогда не встречали, не чувствовали, не понимали убийцу ранга Генриха Восьмого. Богатейшая натура изверга и садиста низводится вами до скучной и плоской фигуры. Льяна вы загоняете в примитивную схему: играй зависть — черную, всеохватывающую зависть. Генрих страстно любил Анну Болейн и питал искреннюю дружбу к Томасу Кромвелю. Любит — и убивает. Трагический закон, логика тирании. Здесь таятся куда более глубокие, сложные и интересные для художника проявления человеческой души, чем зависть; как ее ни обряжай. — До той поры глухой, голос Года зазвенел: — Дело в том, Рервик, что для вас Генрих — всего лишь исторический персонаж, кукла. Вы не чувствуете живой плоти этого образа. Вы не жили в его время, рядом с ним. Его психика непроницаема для вас. После того, что я сейчас слышал, мне кажется, вам вообще не следует браться за этот фильм.
— Я еще не получал такой отповеди, — сказал Андрис.
— Это тебе полезно, — отозвался Велько, долго молчавший.
— Но я еще не сдался. Я сопротивляюсь. — Андрис повернулся к Году: — Послушайте, Авсей, согласись я с вами, что будет с планами содействия процветанию Леха? Вспомните, вы только что говорили — оживление экономики, приток туристов.
— Все остается в силе. Вам просто придется снять другой фильм — живую трагедию, ужас наших дней, а не картонные исторические страсти. Вы же документалист, как говаривали в старину, милостью Божьей. Я вам дам то, о чем только может мечтать режиссер, — документ. И Льяну не придется рядиться в средневековое барахло и надувать щеки, изображая чуждого ему Генриха.
— Вы сказали — документ?
— Да.
— Какого рода документ?
— Вам, кажется, по душе исторические аналогии. Представьте, что вы хотите снять картину о Фемистокле, а я подвожу вас к замочной скважине. Вы приникаете к ней и видите курносого крепыша, который под хохот толпы громит бедного Аристида на ареопаге. Вы слышите его хриплый голос и различаете темное пятно пота на пыльном хитоне. А потом стоите рядом с ним на смолистом настиле триеры и щурите глаза от пламени, охватившего Ксерксовы неуклюжие посудины, набитые награбленным скарбом, слышите шипенье головней и шепот соседа, обращенный к густо тонущим персам: «Нету в Элладе покоя для ищущих крови и злата…»
— Я чувствую, Андрис уже готов приступить к съемке фильма о греко-персидских войнах, — сказал Велько.
— Ничего подобного, — возразил Рервик. — Тем более что Фемистокл к нам не ближе, чем Генрих Восьмой. Я думаю, Авсей хочет подвести нас к другой замочной скважине. Выкладывайте, Год, что у вас в кармане?
— Именно в кармане, — сказал Год. Он извлек из складок рубахи голокристалл и включил проектор. Кружевное платьице девочки напоминало бабочку, влетевшую в угрюмый мир ампирного кабинета. Письменный стол в конце сходящейся мраморной колоннады казался резным замком. Человек за столом был неподвижен. Колонны дробили и усиливали голос девочки: «Папа! Папа!»
глава четвертая
И море, и Гомер — все движется любовью.
— Папа, папа! У Нюкты ушанчики народились, ой, как угольки с усиками. — Девочка захлебывается, глаза горят, колпачок сбился, болтается за спиной на шнурке, башмачки мелькают треугольными лепестками отворотов. — Вели скорее их принести!
Лицо Цесариума обрело подвижность. Он привстал, подался вперед. Два голубых листка слетели на ковер. Сухопарый грациозный горбун, разметав полы розового мундира, бросился на колени — поднимать.
— Зачем приносить, Салима. Нельзя их трогать, они должны быть при матери. — Цесариум встал во весь рост и кивнул горбуну. — Хорошо. Пусть это пройдет по линии куратория личных отношений. Пригласить всю семью, сегодня в шесть. Иди пока, я позову.
Розовые фалды скрылись за портьерой. Немного ссутулившись, Цесариум протянул ребенку большой палец:
— Ну, идем, посмотрим твои угольки. Сколько, говоришь, их у Нюкты? Ты уже придумала им имена?
Спина Цесариума расплылась, заняла весь экран. Появился овальный стол, накрытый на четыре персоны. Все в той же скромной серой блузе, чуть приволакивая ногу, Цесариум водил вокруг стола статного красавца в сиреневой рубахе до пят.
— Ты даже не представляешь, Иоска, как огорчил меня отъезд Купки. Я-то, сентиментальный дурак, думал увидеть вас всех, поболтать за чашкой оло, вспомнить старые дни, перекинуться в тун. Ведь я, подумать только, не видел вашего малыша больше года.