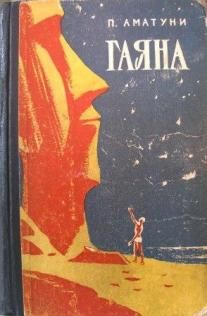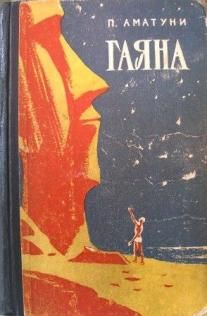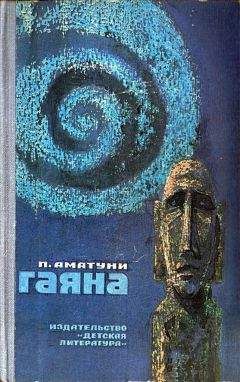Петроний Аматуни - Гаяна
— Не надо подниматься, — услышал он ровный голос Шелеста. — Не волнуйтесь: Юль рядом с вами. Все в порядке, Евгений Николаевич. Решительно все. Лежите и слушайте: произошло такое, с чем нелегко свыкнуться… Мы тоже рядом, в другой кабине… Молчите и размышляйте. Я расскажу по порядку…
Глебов последовал приказу командира по привычке: раз Шелест так сказал — надо подчиниться. Главное — Юль тоже здесь!
Шелест начал рассказ издалека — с прилета почтовой ракеты. В психологически трудных местах он делал паузы, давая время для осмысливания.
— Не вставайте, — прикачал Шелест, окончив свой рассказ. — Мы идем к вам…
Евгений Николаевич улыбнулся и пожал нам руки. Еще лежа закидал нас вопросами:
— Вы спросили у изумруднокожих: знают ли они Материю Величайших Пространств? Есть ли у них карта космических струйных течений?
Боб хлопнул в ладоши и весело воскликнул:
— На нем уже можно ездить! А мы беспокоимся, подготавливаем… Карту течений мы у них раздобыли, а вот насчет Материи Величайших Пространств… Черт его знает… Разве на одних пальцах все поймешь…
— Не пальцы, а телепатия! — с укоризной произнес Евгений Николаевич.
— Еще и недовольны, — усмехнулся я. — Берите тюбик и завтракайте. Окрепнете и сами разбудите Юль…
— Жизнь хороша! — сладко потянулся Евгений Николаевич и кивнул на биотрон. — Даже с перерывами…
Глава четырнадцатая
И ЗЕМЛЯ НЕ СТОЯЛА НА МЕСТЕ!
1
Чем больше скорость, тем труднее переход к движению медленному, к жизни в более тесном пространстве.
Для нас, летящих в звездолете «Роот», такой переход называется просто: торможение Падает скорость, ускоряется время, появляется перегрузка, которую одинаково не любят и живой организм и мертвое вещество.
Как улитка в раковину, заползли мы в биотроны и вылезли из них уже в пределах Солнечной системы. По существу «во дворе»! Так и хочется «посильнее нажать на тормоза», но Шелест не разрешает превышать двукратное увеличение веса.
Мы ловим позывные Земли, а наш звездолет на «вечной волне» — специально резервированной для галактических экспедиций — подает свои.
Земля уже светит нам! Мы не можем еще различить материков, но видим ее, и приборы измеряют ее тепло… Работы прибавилось всем, как на самолете при подходе к аэропорту. Поглощенные счислением пути и расчетами, мы как бы переселились в мир цифр.
Земли не слышно, несмотря на несколько каналов связи, включенных одновременно Мы немного озадачены, но внешне сдержаны, даже Юль.
Только чуть неподвижнее стали лица, когда в эфире послышался наконец слабый голос:
— Я — Марс-один, Марс-один. Вас слышу на «вечной волне», вас слышу на «вечной волне». Даю настройку…
Шелест включает автомат подстройки и, немного выждав, отвечает:
— Говорит звездолет «Роот», говорит звездолет «Роот». Следуем по маршруту Гаяна — Земля. Командир Шелест. Перехожу на прием.
Пауза. Шелест передает текст вторично. Пауза. Высокий голос торопливо произносит:
— Повторите фамилию командира.
— Командир-Шелест. Командир-Шелест. Пауза. Мы понимаем ее скрытое «красноречие»: к такому нельзя отнестись спокойно — пусть у радиста и тех, кому сейчас он докладывает, «прогреются лампы».
— Я — Марс-один, я — Марс-один. Вызываю Шелеста…
— Шелест на приеме.
— Поздравляем с возвращением, дорогие! Как самочувствие экипажа?
— Благодарю за поздравление. Самочувствие отличное. Кто вы?
— Говорит «Марс-один» — первая советская база на Марсе.
Мы обнимаемся, хлопаем друг друга, говорим чепуху, и лишь Евгений Николаевич, стараясь перекричать нас, пытается сказать что-то важное. Шелест кое-как успокаивает нас и кивает на Глебова:
— И Земля не стояла на месте, друзья мои! Уже и на Марсе наш флаг! Послушаем же Звездолюба… Ну тише, вы!
— У меня возникла счастливая мысль… — говорит Глебов. — Мы улетали, когда люди бывали только на Луне. Верно?
— Так. Дальше…
— А сейчас на Марсе лишь первая, понимаете, первая база! А? Значит, времени прошло немного! А? И космические струйные течения есть не только в расчетах, но и в действительности… А?
— Марс-один, Марс-один! — громко запрашивает Шелест. — Я-«Роот», я-«Роот»… Который сейчас год?..
Ответ потонул в шуме веселья. Мы увидим своих современников! Ведь вся наша экспедиция — полет в, оба конца и пребывание на Гаяне заняла почти день в день девять лет.
Улетать на два с половиною века и управиться за девять лет — о таком счастье мы не мечтали! Конечно, в последнее время, особенно после встречи с изумруднокожими, мы стали умом привыкать к такой возможности, но в сердце не угасал уголек сомнения.
В нашем звездолете творилось такое, что можно представить себе, лишь просмотрев корабельный фильм и прослушав звуковые записи. Недавно, пересматривая эти кадры, я обратил внимание, что возбуждение наше длилось не так уж и долго — через три минуты Шелест принялся за деловой разговор. Всего три минуты оказалось достаточно, чтобы смять в гармошку два с половиною предполагавшихся столетия, а заодно смахнуть в пережитое, как крошки со стола, и те девять лет, что мы фактически не были дома.
Скор человек, ох и скор!
Нам приказали взять на борт — возле орбиты Марса — космонавта-лоцмана, который поможет нам произвести заход и посадку.
Пока газеты, журналы и радиостанции воскрешали в памяти жителей Земли картины нашего отлета, сообщали и комментировали наше появление в космосе, Шелест и Глебов принимали навигационные данные и приступили к маневрированию для приема лоцмана.
Я помогал им, а Хоутону, как журналисту, поручили репортаж о нашей экспедиции и космических струйных течениях.
— Только без «музея истории интерьера и мебели», — проворчал командир, вспомнив нашу гаянскую виллу на озере Лей.
Живы ли наши близкие? Увидим ли мы их? Девять лет — пустяк в галактическом полете — ощутимы в быстро меняющейся земной хлопотной жизни: «вода» на Земле течет быстрее, чем в космосе.
Наконец, нам сообщили: все живы, здоровы и встретят нас!
Мы переглянулись, вздохнули широко и вольготно, и работа пошла слаженно, как никогда.
2
Лоцман у нас на борту. До этого дважды Шелест спрашивал его имя, а ему отвечали загадочно: «Узнаете!»
Дверь компрессионного отсека отворилась, лоцман вошел в промежуточную кабину, и мы помогли ему снять скафандр.
На нас глянуло узкое смуглое лицо, с блестящими темно-серыми глазами. В курчавых черных волосах лоцмана серебрилась седина.