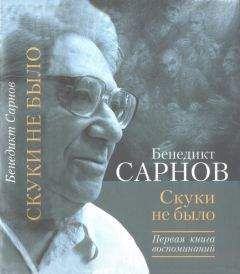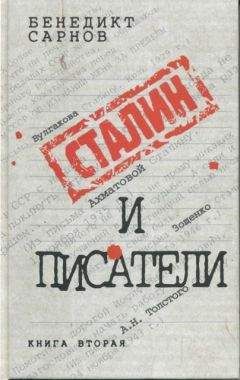Бенедикт Сарнов - И это все в меня запало
Шлиман, почувствовав, что дело худо, тоже исторг из своей груди что-то вроде молитвы. Но он обращался не к небесам. Он воззвал к своему будущему. Не может быть, чтобы он так глупо погиб, не осуществив того дела, той великой цели, к которой он себя предназначил.
История эта напоминает знаменитый анекдот про Юлия Цезаря. Тот тоже однажды попал в объятия водной стихии и чуть было не утонул. Он, правда, был в лодке. Но лодчонка трещала под напором волн, и гребец, управлявший ею, уже не надеялся остаться живым. И вдруг, в самый отчаянный и страшный момент, когда, казалось, уже не оставалось никаких надежд на спасение, на плечо гребца легла спокойная рука и спокойный голос произнес:
- Не бойся! Ты везешь Цезаря и его счастье!
Цезарь верил в свою звезду: он твердо знал, что не может погибнуть, не свершив того, что ему предназначено свыше. Таков смысл этой знаменитой притчи.
Так вот, оказывается, Шлиман верил в свою звезду так же истово и страстно, как Цезарь - в свою.
Такое сравнение, быть может, кое-кому покажется неправомерным. Как бы ни был велик подвиг жизни Шлимана, разве может он сравниться с великими подвигами легендарного героя древности, слава о котором живет уже две тысячи лет?
Но если вдуматься, победа Генриха Шлимана стоит всех побед Цезаря. В каком-то смысле она даже превосходит их. Цезарь огнем и мечом создал могучую военную империю. Но где она теперь? Что от нее осталось? А Шлиман открыл целую культуру, целую эпоху в истории человечества. "Империя" Шлимана, в отличие от империи Цезаря, не только не распалась и не погибла, она все растет, пополняется все новыми и новыми открытиями и научными завоеваниями.
Самое поразительное в жизни Шлимана - не то, что он сохранил верность своей детской мечте. В конце концов, мало ли было на свете фанатиков, одержимых идеей, неуклонно идущих к намеченной цели и так или иначе достигающих ее. Главное все-таки в том - какова эта цель?
Когда 4 января 1891 года Генрих Шлиман лежал в гробу, в зале его афинского дома, чтобы отдать ему последний долг, собрался весь цвет тогдашнего общества: коронованные особы, придворные, министры, дипломатический корпус, представители академий и университетов Европы, членом которых и почетным доктором он был избран. Было произнесено много речей. Каждый из ораторов не преминул заметить, что считает умершего своим соотечественником. (Повторилась история с Гомером, о котором "спорили семь городов".) Немцы претендовали на Шлимана как на земляка, в особенности Берлин, как на своего почетного гражданина. Англичане - как на доктора Оксфорда и члена знаменитейших английских ученых обществ. Американцы говорили, что он был человеком, ярче всего воплотившим в себе "подлинный дух американских пионеров".
Но для самого Шлимана, будь он жив, выше всех этих громогласных признаний его великих заслуг, надо думать, оказался бы тот простой и скромный факт, что у изголовья его смертного ложа, возвышаясь над ним, стоял бюст Гомера.
Что ни говори, а самое поразительное в жизни Шлимана все-таки то, что первая модель вселенной, созданная его детским воображением, оказалась истинной.
Конечно, Троя, которую он откопал (если это вообще была Троя), была совсем не похожа на тот горящий город с толстыми крепостными стенами и высокой четырехугольной башней, который открылся ему, восьмилетнему мальчугану, на детской картинке в книге доктора Еррера.
Но какое это имеет значение!
Вот Марина Цветаева вспоминает о том, как впервые в жизни открылась ей волшебная музыка пушкинских строк: "Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она..."
Послушаем ее рассказ, он имеет самое прямое отношение к нашей теме:
"О, господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано - печалью, точно Пушкин этим повторением "печаль" луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: "Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика", то сразу попадала в:
Вы очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?
И эти очи голубые - опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы-души...
Читатель! Я знаю, что "Вы очи, очи голубые" - не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где все - еще все, этого не знаю, потому что "разрывая сердце мне" и "сердечная тоска", молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь - одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. Вошли в состав..."
Вот так же и Шлиман знал, конечно, что картинка из книги Еррера, изображающая Трою, - всего лишь неуклюжая иллюстрация какого-то посредственного художника, да и не к Гомеру даже, а к Вергилиевой "Энеиде". Но и он мог бы сказать о себе точь-в-точь как Цветаева:
- Если вы меня взрежете, то кроме вечно звучащих в моих ушах гомеровских гекзаметров, кроме вечно живущей в моей душе уверенности, что Одиссей, и Патрокл, и Ахилл, и Гектор, и Андромаха, и слепой старец Гомер действительно жили на свете, - кроме всего этого, вы еще обнаружите во мне и эти толстые крепостные стены, охваченные огнем, и бегущего к воротам воина, несущего на плечах старца и влекущего за руку маленького сына. Да, вы обнаружите там, во мне, внутри меня, эту давнюю неуклюжую картинку из моего детства. Вошла в состав.