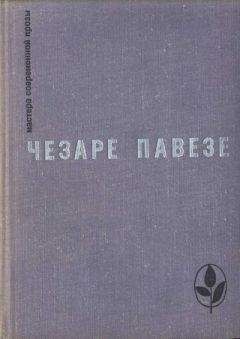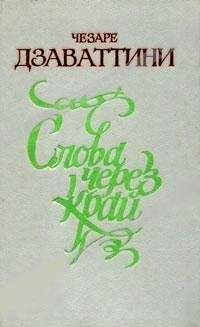Аркадий Львов - Две смерти Чезаре Россолимо (Фантастические повести)
Матовое стекло двери, пронизанное солнцем, золотится, как желтые полосы на осином брюшке. От желтого у меня подымается настроение. Через четверть часа — в лабораторию.
— Добрый день, синьорина! Прекрасное утро. Почти Италия.
Зенда Хааг точь-в-точь по-вчерашнему стояла у перил на площадке третьего этажа и улыбалась. Но так улыбаются впервые увиденному человеку, в котором угадали кого-то ожидаемого.
— Зенда Хааг, — протянула она руку.
— Умберто Прато, — машинально откликнулся я.
Она все еще сохраняла свою поощрительную улыбку очаровательной женщины, а потом вдруг, мгновенным усилием разорвав какую-то пелену, расхохоталась:
— Что же это я — ведь только вчера, Умберто, мы с вами толковали целый вечер!
— Добавьте, синьорина, прекрасный вечер!
— А теперь, доктор Прато, — она крепко сжала мой локоть, слегка проталкивая меня вперед, — я познакомлю вас, как обещала, с отделом, где вы будете теперь шефом.
Обещала? А разве она не водила меня по лабораториям отдела биохимии уже вчера? Мне казалось, она должна сказать еще что-то. Я ждал — нет, больше она ничего не говорила. За окном детский голос выкрикивал песенку:
Колумбия, Колумбия —
Прекрасная страна!
Здесь лето золотое,
Здесь синяя весна!
V
Джулиано Россо вернулся в четверг после полудня. Я не слышал, как отворилась дверь, как прошел он через весь кабинет к моему столу у окна.
— Здравствуйте, доктор Прато! — воскликнул он радостно. — Безмерно счастлив видеть вас здесь.
Не давая опомниться, он засыпал меня кучей вопросов, которые привычнее звучали бы в устах близкого родственника; как долетели, как устроились, как настроение, не одолевает ли ностальгия и — самое, самое главное — как здоровье?
Наружность его оказалась неожиданной для меня. Ростом он был с Чезаре, черты лица несколько крупнее и суше, нежели у брата, но самое поразительное у него волосы и брови — чистейшей масти альбинос! Естественнику едва ли пристало удивляться такой элементарной мутации, но, право, я был до того озадачен, что позабыл обо всяких приличиях и нормах. Опомнившись, я пробормотал извинения, но он не слушал меня, он сам принялся всячески оправдывать меня, потому что итальянец — он сжал перед собою кулак: жест возбужденного Чезаре! — вправе увидеть в своем соотечественнике итальянца, а не белую крысу. Однако, добавил он, природа оказалась еще милосердной — глаза-то она отпустила ему нормального человеческого цвета.
Это верно, глаза у него были синие, но под белесыми бровями, отороченные полосками белесых ресниц, они воспринимались как негатив. Это впечатление негатива усиливалось еще крепко загорелым лбом и веками, которые были откровенным контрастом окружавшей их растительности. Впрочем, загар у него был не малиновый, как обычно у альбиносов, а кофейный с желтизной.
Прищурившись, он осмотрел меня и, мгновенно обретя серьезность, сказал, что я почти безукоризненно воссоздаю тот мой образ, который сложился у него из писем брата.
— Простите, Умберто, — тут же поправился он, — я хотел сказать, что образ, возникший из описания, почти идеально отвечает натуре.
Я поймал себя на мысли, что всячески пытаюсь нащупать сходство между ним и Чезаре. Он заметил эти мои поиски и сказал, что в наружности у них с Чезаре не очень-то много общего, а вот в мимике… Да, подтвердил я, в наружности не очень, а в мимике временами видится сам Чезаре.
— Точнее было бы утверждение, — грустно улыбнулся он, — что Джулиано виден был порою в Чезаре, который на три года младше. И кстати, я не сокращал фамилию — это Чезаре удлинил ее, чтобы его не путали со мною.
Потом он сделал паузу, и еще до того, как он заговорил снова, я знал, что сейчас он вспомнит о самоубийстве Чезаре и гибели Витторио Кроче. Я не ошибся, он действительно заговорил о том и другом, но, вопреки моим ожиданиям, почти не задавал вопросов, а объяснял все сам. Он сказал, что Чезаре за день до смерти написал ему о творческом своем крахе, о том, что больше у него нет цели и он не видит оснований ожидать естественной развязки жизни, которая никому не нужна уже сегодня. В этом последнем письме он вскользь упомянул о нескончаемых издевках Витторио Кроче, хотя с оговоркой, что в общем-то иного он не заслужил.
— Но Кроче он все-таки очень не любил. Очень.
О ненависти брата к Витторио Кроче Джулиано говорил задумчиво, шепотом, как будто одновременно продолжал размышлять, насколько справедливо было это чувство и как бы реагировал Чезаре на смерть Кроче.
А обо мне он знал все — и то, что в последнее время у меня были нелады с Витторио, и почему они возникли, и почему институт предпочел расстаться со мной. Он говорил об этом очень спокойно, очень уверенно, как человек, который уже все взвесил и решил, что можно и нужно быть спокойным. Однако самого главного он все-таки не вспоминал. Я все колебался, рассказать теперь или ждать того момента, когда появится чистая решимость, без сомнений, а он вдруг сам заговорил об этом — и опять спокойно, уверенно и даже как будто защищая меня от моих собственных нападок. Сначала мне было очень неприятно это, потому что только сейчас я отчетливо увидел, что история с отпечатками моих пальцев на шее у Кроче постоянно гнетет меня, требуя объяснения. Но потом я почувствовал даже облегчение — не потому, что он решительно отверг версию о моей виновности, а потому, что он совершенно по-новому сформулировал проблему: кому и зачем понадобилось подделывать мои отпечатки? Он говорил еще, что сама по себе такая подделка — чрезвычайно сложна технически, но главное, по его убеждению, все-таки не в самой подделке, а в ее цели.
В течение всего разговора он очень внимательно следил за мной, и по мере того, как на душе у меня делалось легче, он тоже становился свободней, раскованнее, и теперь в его спокойствии и уверенности появилась легкость, которой прежде не было. А под конец он откровенно признался, что очень тревожился обо мне, потому что… Он запнулся, и я продолжил его мысль:
— Потому что казалось, будто я сам себя в чем-то подозреваю?
— Да, — сказал он решительно, без промедления. — Казалось, Умберто, вы упорно что-то перебираете, что-то припоминаете. А теперь все в порядке, теперь я совершенно спокоен.
У меня тоже было впечатление, что теперь он и в самом деле спокоен без прежнего внутреннего усилия и волевой установки на спокойствие.
Весь мой европейский багаж был просмотрен до нитки, и наконец я мог заняться делом, не оглядываясь на прошлое, не заботясь о том, что кто-то ненароком обнаружит контрабанду в моей биографии.