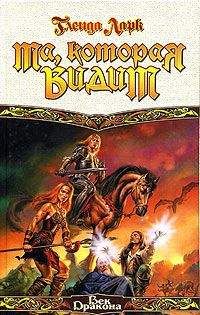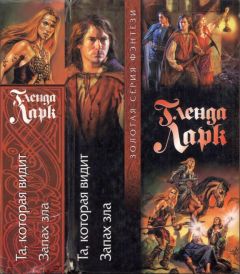Песах Амнуэль - Монастырь
Неважно. Это и тогда, и потом казалось ему неважным.
Он ощутил в себе вселенную. Он стал вселенной. Не вокруг себя, а внутри, в себе самом он ощутил движение, излучение, жизнь множества галактик, самых разных - сферических, как его родная Галактика Альбуаза, спиральных, будто закрученных энергетическим вихрем, были галактики и вовсе бесформенные - заброшенные звездные острова. Галактики собирались в скопления, разбегались друг от друга, а кое-где, наоборот, сталкивались.
Это я? - мелькнула мысль. Это во мне? Конечно, - сказал голос.
Десятка два галактик столкнулись в тишине пространства, и Аббад почувствовал легкий жар на уровне сердца, будто тоненькая игла вонзилась в тело и расплавилась, оставив вместо своей материальной сути гибкую мысль и не понятую еще идею.
Он медленно проплывал, пролетал... почему-то из его лексикона исчезли слова, обозначавшие движение в пространстве со скоростью, превышавшей скорость света. На его пути возвысилась, поднялась, приблизилась галактика... или это была лишь мысль о... или, возможно, проросшее в его душу стихотворение... нужно успокоиться, иначе он ничего в себе не поймет и не сможет выбраться из этого... этой...
Он летел, плыл, проползал между звезд, погружался в холодные недра туманностей, перехватывал излучение белых карликов и жарких шаров, которые не были ни звездами, ни черными дырами, а представляли собой щупальца идей, проникшие сквозь два мира в это материальное пространство.
Это я, - говорил он себе, и суть всякого явления, всякого движения была ему ясна. Он знал, почему светят звезды, почему они собираются в спирали, и понял неожиданно, что где-то в этой огромной вселенной, на одной из планет одной из галактик в одном из скоплений... в мире, так непохожем на его собственный, но все-таки похожем, как бывают похожи друг на друга братья, разделенные при рождении и никогда не встречавшиеся.
Я - это он? - мелькнула мысль.
Он - кто?
Резкая боль возникла не в нем, конечно, потому что себя он не чувствовал, резкая боль пронзила все пространство, будто натянувшееся, готовое разорваться, лопнуть, вот сейчас... и мир перестанет быть... невозможно... нет...
* * *
Что-то вытолкнуло Аббада из собственного подсознательного, заставило его открыть глаза, а уши опять слышали множество звуков - тихий гул компьютера, тиканье часов, чьи-то возбужденные голоса на лестничной площадке, и еще были какие-то звуки, природу которых он не мог определить. Он открыл глаза и понял, что вернулся сон, преследовавший его которую уже ночь. Это был не кошмар, напротив, ему было безумно интересно ощущать себя в мире, который он не мог бы никому и даже самому себе описать словами, потому что слов таких не существовало в природе.
Он потянулся, и образы сна, будто испугавшись света дня за окном, свернулись в клубок и спрятались, сделавшись невидимыми и неощутимыми. Каждое утро, просыпаясь, он хотел запомнить хоть что-нибудь, знал, что это важно - прежде всего, для работы, это было прозрение, инсайт, но почему-то память подводила, и он запоминал только ощущение, внутреннюю потребность делать то, что он делал.
Он заставил себя встать и поплелся в душ - пустил сначала очень горячую, а потом ледяную воду, мысли чуть прояснились, и ему даже показалось, что он ухватил кончик решения уравнения, того, вчерашнего. Он читал перед сном новую статью Линде в "Физикал ревью леттерс", очень интересный поворот в умозаключениях по поводу теории инфляции.
В комнате надрывался телефон, но ему не хотелось выходить из-под душа, он надеялся, что сейчас вспомнит... Нет, не получалось. Ни сейчас, ни вчера, ни неделю назад.
Наскоро обтершись, он прошел в комнату и схватил трубку телефона как раз в тот момент, когда звонки прекратились. Номер... Да, звонила Дженни, ладно, ей я перезвоню позже, подумал он, все равно вечером встретимся, а сейчас не хотелось бы отвлекаться.
Он выпил кофе, съел вчерашнюю булочку, густо намазав ее айвовым вареньем, и сел к компьютеру. Он не знал, как выйти на решение, но почему-то был уверен, что именно сегодня, стоит только ему увидеть на экране цепочку знакомых символов...
Наверно, это и называют инсайтом, озарением, прозрением. Заменить переменную, проинтегрировать по поверхности, потом сократить и суммировать...
Все.
Решение. Красивое, как миланский собор, прочное, как пирамида Хеопса, - и правильное, как четыре первых постулата Евклида.
Он записал формулу в файл, вывел на экран всю цепочку преобразований и предположений, начав с граничных условий и критериев. Слов для описаний понадобилось совсем немного - не статья получилась, а математическая вязь, именно такой он и представлял себе идеальную статью по космологии, где все понятно посвященному, специалисту, и совершенно непонятно прочим смертным.
Космология, - подумал он, - не наука об устройстве Вселенной (или вселенных, если быть точным). Космология - это самосознание. Или - самопознание. Извлечение мира из сна. Или - сон мира.
Он вывел статью на принтер, распечатал, но перечитывать не стал - положил восемь получившихся листов сверху на купленную вчера в университетском магазине "Жизнь в Многомирии" Бергсона. Надо будет почитать, но он знал, что не найдет там ничего для себя нового.
Идеальная статья, - подумал он. Только формулы. Посвященный поймет. Или не поймет - если не захочет разглядеть очевидного. Не нужно полагаться на интуицию читателя, будь он лучший в мире специалист по строению Вселенной. У каждого свой взгляд на предмет, и каждый (разве он не убедился в этом на собственном опыте?) в любом, самом, казалось бы, очевидном тексте видит лишь то, что хочет - до тех пор, пока его не ткнут носом, пока не скажут: "Что же ты, идиот этакий, не видишь очевидного?"
Конечно, из формул следует, что плотность темной материи во Вселенной близка к критической настолько, насколько вообще эта величина может быть определена на современном уровне наблюдений. Вообще говоря, темной материи во Вселенной ровно столько, сколько требуется для объяснения ускорения - и столько, сколько нужно, чтобы в любой момент ткань пространства-времени порвалась, как рвется под руками старое прохудившееся платье: так он порвал, когда был ребенком, старую мамину блузку, самую дорогую для нее вещь, которую она берегла, как... да, пожалуй, как обручальное кольцо, переходившее в семье от матери к дочери. Мама говорила, что кольцо сделано было в семнадцатом веке, а может, и раньше - во всяком случае, его далекой прапрабабке это кольцо подарил на свадьбу прапрадед-пират, а с чьего пальца этот прожженный негодяй снял удивительную по красоте вещь... лучше не думать.
Вот-вот. И сейчас, пожалуй, лучше не думать о том, что каждый прожитый миг может стать последним, и ни от чего земного это не зависит - ни от террористов Бин-Ладена, ни от бандитов из Гарлема, ни от иракской политики президента Буша, ни от болезни, любой, в том числе и той, которой он боится больше всего, боится настолько, что даже мысленно не хочет произнести название, потому что это семейный бич, от этой болезни умерли его дед и отец...