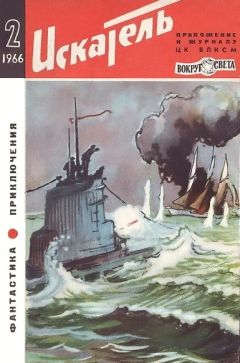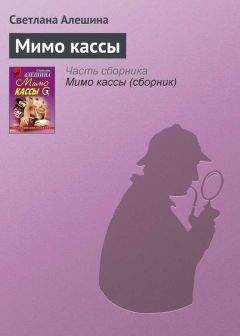Ольга Ларионова - Вахта «Арамиса»
Санти поднял на нее ясные глаза, — ну и расправляются же здесь с гостями, и, судя по всему, это тут обычное явление, — и заговорил негромко и сосредоточенно, как пай-мальчик, отвечающий урок:
— Ни тот мирный переход от капитализма к социализму, который имел место в нашей стране, ни то расширенное понятие о социализме, к которому пришли американские теоретики, не только не противоречат марксистской диалектике…
— А ваши безработные? Они что — тоже не противоречат? — перебила его Ада.
— У нас нет безработных.
— М-да?
— Мисс, ради бога, поддержите меня, — Санти обернулся к Паоле, через упруго подавшийся синтериклон коснулся ее близкого плеча. — Скажите вашим коллегам, что любой американец, не нашедший работы по специальности, получает в неделю один час общественных работ, причем оплата этого труда настолько высока, что она позволяет ему не только прокормиться. самому, но и содержать семью.
— То есть не помереть с голоду, — задумчиво сказала Ираида Васильевна. — То-то и оно, что рождаемость у вас…
— Рождаемость — вопрос другой, — быстро перебил ее Санти. — Не будем уклоняться. Что же касается работы по специальности, то мы не можем предоставить ее каждому, потому что это значило бы…
Он остановился и глянул на Паолу, давая ей закончить свою мысль.
— …это значило бы подорвать конкуренцию. А конкуренция — залог прогресса, — старательно, как на уроке, проговорила Паола.
Ада презрительно пожала плечами, чего, в общем-то, никогда себе не позволяла:
— Ну, а эксплуатация трудящихся? И это при социализме?.
— Помилуйте, эксплуатации давно не существует. Каждый рабочий полностью получает за свой труд. Полностью. Не так ли, мисс?
— Конечно, мистер Стрейнджер. Капиталисты… Паола беспомощно наморщила лобик, — они присваивают себе только труд роботов. А живые люди полностью получают по труду.
Паола раскраснелась, поставила локти на стол.
Впервые она, как равная, принимала участие в таком умном разговоре.
— Труд роботов… — вздохнула Ада. — Горе ты мое. Когда это машины могли трудиться?
Паола сначала испуганно захлопала глазами, а потом и вовсе примолкла.
— Послушайте, вы, знаток русского языка, — заговорила притихшая на время Симона, — а вам известен такой термин — „липа“? Да? А „развесистая клюква“?
Так вот, ваш кибернетический социализм по-американски…
— Мадам, — спокойно проговорил Дэниел 0'Брайн, и Мортусян перестал жевать. — Вы забываете, что я тоже американец.
Симона обернулась — к нему, фыркнула:
— Дорогой капитан, это — единственное, что примиряет меня с Америкой.
Дэниел наклонил голову — ровно настолько, чтобы не показаться неучтивым. И всей кожей почувствовал взгляд Санти Стрейнджера. А действительно, стоит ли быть учтивым с какой-то марокканкой? Дэниел постарался смотреть на бесцветный экран фона — так, чтобы взгляд приходился посередине между Адой и Ираидой Васильевной.
Ираида Васильевна поднялась:
— Очень жаль, господа, но мы не хотели бы, чтобы корабль задержался на „Арамисе“ по нашей вине. Салон и библиотека в вашем распоряжении. И, разумеется, буфет. Паша, займи гостей.
Мужчины поднялись вместе с ней. Паола улыбнулась, как и подобало хозяйке, вступающей в свои права, спросила:
— Может быть, еще кофе?
Санти опустился на свое место и положил ноги на кресло Мортусяна, приняв естественную и непринужденную позу усталого человека:
— Если это вас не затруднит, мисс, то еще чашечку. Паола побежала на кухню.
— Отдыхайте, ребята, — сказал капитан и направился в свою каюту.
Мортусян подошел к Санти, перегнулся через спинку его кресла, выплюнул абрикосовую косточку:
— Мне смыться? — Как знаешь.
— Развлекаешься с девочками?
— И другим советую.
Мортусян как-то неопределенно хмыкнул, нежно погладил Санти по голове:
— Ну, ну, паинька, — и тоже направился к себе.
Паола с чашечкой на подносе впорхнула в салон. Увидела Санти. Одного только Санти. Значит, снова до утра… и — приветливым тоном хорошо вышколенной стюардессы:
— Кофе, мистер Стрейнджер… — и запнулась: между ними был синтериклон. Такой промах для опытной стюардессы…
Она так и стояла, мучительно краснея все больше и больше, хотя давно уже могло показаться, что дальше уже некуда; но особенностью Паолы было то, что она умудрялась краснеть практически беспредельно. И эта глупая, ненужная чашка в руках…
— Бог с ним, с кофе, — ласково проговорил Санти, поднимаясь. Он подошел к перегородке и прижался к ней щекой. Перегородка была чуть теплая. — Мисс Паола, вы скоро вернетесь на Землю?
Паола подняла на него глаза и не ответила. Санти засмеялся:
— Держу пари, что я-таки добился того, что вы считаете меня самым навязчивым из всех ослов. Ну, ладно. Чтобы доказать обратное и заслужить вашу дружбу, открою вам один секрет: если вы хотите завоевать симпатии мистера Мортусяна — пошлите ему в каюту целую гору сластей. Знали бы вы, какой он лакомка! Это верно так же, как и то, что капитан любит только одну вещь: легкие вирджинские сигареты.
— Но у нас на станции никто не курит… — Паола растерянно оглянулась по сторонам.
Господи, какая дура!
— К счастью, в моем личном саквояже вы можете их отыскать. Пошлите на корабль „гнома“, как только закончится дезактивация и дезинфекция.
— Я не имею права…
— О, разумеется, разумеется… — Санти чуть заметно усмехнулся: не пройдет и трех минут, как „гном“ поползет на корабль за сигаретами. Ну что же, начинать надо с малого. — А жаль! — добавил он вслух.
Паола улыбнулась дежурной улыбкой стюардессы:
— Пойду поищу чего-нибудь для мистера Мортусяна…
Санти проводил ее взглядом, вытянулся в кресле, закинув руки за голову, негромко прочитал:
Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого…
Дэниел закрыл за собой дверь каюты, устало Опустился на край койки. Ну что, капитан, где твое хваленое ТО, ради чего ты живешь именно так, как сейчас живешь, и не стоит жить иначе?
Раньше оно, пожалуй, было ближе, достижимее.
А сейчас оно где-то рядом, но невидимо и неощутимо, как грань между будущим и прошедшим. Увлекательная это игра — ловить настоящее. Хотя бы — ощущение. Кажется, что оно вполне реально, но когда стараешься подстеречь его — оно становится всего лишь ожиданием; оно приходит, спешишь зафиксировать его в памяти — а оно уже там, потому что оно стало воспоминанием.
И так всегда и во всем его настоящее распадалось на прошедшее и будущее, ускользало, и вся жизнь, если смотреть на нее с точки зрения разложения бытия на две эти иррациональные составляющие, расползалась, расплывалась, теряла привычные контуры, и в мерцании равновероятных правд и неправд рождалось желание совершать что-то недопустимое, невероятное; ведь не все ли равно было, что делать, если не успеваешь осмыслить каждый миг — а он уже перелетел грань будущего и прошедшего.