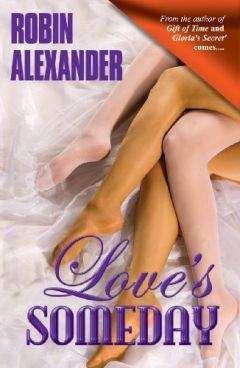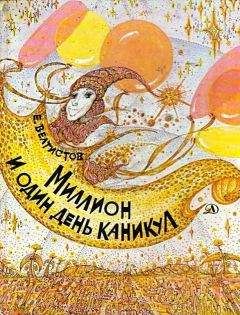Василий Щепетнёв - В ожидании Красной Армии
Но прошло полчаса, пока находка показалась целиком.
Прошло и облегчение. Черт знает что. Больше всего это походило на куколку, но размером с трехлитровый бидончик. А вес, вес — пуда три. Интересная бабочка из нее выползет.
Остатки брезента, в которой это было завернуто, расползся под руками.
Я попробовал поднять находку. Если это золото — по триста долларов за унцию, выходит… выходит… огромадные деньги выходит. Да.
Я переложил куколку в угольное ведерко и понес, ежесекундно ожидая, что отвалятся ушки ведра или проломится донце.
Никто не захлопывал двери погреба, никто не стоял на пути.
Вечерело.
Я вернулся, прикрыл дверь погреба. Ну, все видели?
На пороге дома я орлом, не щурясь, посмотрел на солнце. На его краешек, который постепенно засасывало за горизонт.
Трясина.
Кухня в эти розовые минуты так и просилась на рекламный календарь. Я растопил плиту. Огонь загудел не сразу, тяга неважная, к ненастью; потом положил находку на стол, обтер тряпкой. Ни ржавчинки. Черное яичко черной пасхи. Несколько дырочек, одни забиты землей, другие нет. Ножом я поскреб немного поверхность, но быстро прекратил. Не золото, ясно. То мягкое. Я вернул находку в ведро, прикрыл крышкой, и отнес в крохотную, без окон, кладовочку. Пусть постоит. Затем задернул занавески на окнах, сел спиной к плите и начал ждать в своем выгороженном мирке. Так уж получилось выгороженном.
Год, другой — и я бы начал прорастать деревней, похоже, и сейчас ниточки завязались, едва заметные, эфемерные.
Вьюшка осталась открытой — мне требовалась свежесть. Иначе усну. Ту ночь не спал толком, и эта вряд ли обрадует.
Крепкий чай, всего чашечка, или волнение, но чувствовал я себя бодро. Бодрее, чем когда-либо ранее за время, проведенное в деревне. К утру сгорю, оставив кучку золу.
Из рукомойника в таз мерно капала вода. Капля в четыре минуты, приблизительно — я судил по пульсу, а он у меня частил. Маленький камертончик не давал расслабиться. Ре… ре… Очередь «Ми» — через неделю, когда откапает литр, и повысится уровень воды в тазу. Но ведь испарение, влажность воздуха… Задачка.
Я ждал.
* * *— У меня приказ, и я его выполню, — «я» прорывало разговор, как перо бумагу, если трижды, четырежды обвести букву. — Крайний срок — пятнадцать ноль-ноль. Он настал. Я обязан приступить к ликвидации объекта, — военный отметал саму возможность возражений, спора, но так, словно хотел, жаждал услышать возражения.
— Приступайте, — инженер спорить не стал. Зачем.
— Ликвидация начинается с уничтожения реактивного снаряда, а это — ваше дело.
— Уничтожу, почему не уничтожить. Посредством запуска и уничтожу.
— Поспешите.
— У меня нет времени спешить.
— Сколько потребуется времени?
— Четверть часа.
— Пятнадцать минут? Хорошо, — военный расстегнул ремешок наручных часов, демонстративно положил их пред собой.
Инженер снял телефонную трубку.
— Установить цель ноль-минус.
— Есть установить цель ноль-минус, — отозвался техник. В стереотрубу было видно, как он начал карабкаться по ферме. Для вида лезет. Для этого соглядатая. Цель ноль-минус установлена загодя. Если бы привезли груз, что ж, пришлось бы ставить иные цели. Цель один или цель три. Лондон и Берлин. Вероятность попадания четыре и семнадцать процентов соответственно. Навигационный космическо-баллистический прицел, НКБ-один. Остряки расшифровывали, как «на кого Бог пошлет». Откуда другой взять? Шесть последних лет — ползком на месте. На брюхе. На Марс, на Марс! На Марс? Выбрасывать в безвоздушное пространство народные деньги? Кто придумал? Ах, и оборонное значение? Сколько, полтонны, тонна? Да наш скоростной бомбардировщик за неделю в сто раз больше перебросает. Идите и подумайте! Хорошенько подумайте!
— Десять минут, — военный надел часы. Правильно, сквозняк, дунет — и нет часиков.
Техник начал спускаться. Подумайте. Стакан водки на ночь, и все думы. Иначе — вздрагивать на каждый скрип коммуналки, а стук в дверь — приступ медвежьей болезни. Нервы. Семен Иванович? Ах, вы об этом… Нет, с сегодняшнего дня его не будет. Отдел возглавит товарищ Гаар. И все, нет Семена Ивановича, исчез, словно и не было его никогда, не рождался, как не было и Шульца, Петренко, Скобликова — и это только из его группы. Повезло, получается, Первому, погиб, но в полете, в небе, успев увидеть Землю круглой.
— Пять минут.
Техник побежал от снаряда. Успеет. Интересно, как у Афони дела? Построил лунный снаряд, или тоже — на брюхе? Дружба фройндшафтом, а бумаги пришлось извести много. С кем иностранный специалист говорил, о чем, когда? Раз он «фон», пусть будет Афоней. Товарищи из органов веселые. Дознаются, что он двадцать лет чужую фамилию носит, смеху будет — полные штаны.
Двадцать лет, как он с буквы «Ш» на «К» перебрался. Отдал имя за похлебку. Плюс жизнь. Ведь это жизнь, верно? С ночами, когда сердце норовит выскочить из груди и убежать, и днями, набитыми тоской, беспросветностью и чечевицей. Пока можно работать — жизнь. На Марс…
— Все готово, — доложил техник.
Уйдет снаряд, последний из задела. Придется ли новый строить? Или кирка плюс тачка? Добровольцем. На фронт и дальше. Но сначала пусть снаряд поднимется, на высокую орбиту, на запад, против вращения Земли. Афоня инженер сметливый, сообразит….
* * *Звук, тихий, почти неслышный, выдал себя неправильностью, фальшью. Не должно быть такого в деревенской ночи. Корове мыкнуть, собаке забрехать, даже треснуть выламываемой двери — естественно. Но этот звук, неуловимый, но лживый, отозвался во всех двадцати восьми, увы, зубах.
Кто его придумал?
Во тьме не видно было и окна. Тучи. Но ногами, пока теплыми, я почувствовал течение воздуха. Скользнула мимо Снегурочка.
Я не шевелился. Колун лежал на коленях тяжело, мертво.
Звук не повторялся. Или я не слышал его за стуком собственного сердца.
Крик показался белым, ослепительным — уши делились с глазами. Как не короток он был, я успел вскочить, взять наизготовку топор и вспотеть морозным потом.
На смену крику пришло негромкое рычание и влажный, скользкий хруст. Все за окном, снаружи. Я прижался к стене.
Приходите, гости дорогие.
Несколько щелчков, негромких, я потом сосчитал — шесть. Стена за моими лопатками отозвалась четырежды. Две пули попали не в стену.
Низкий нутряной вой, тяжелый бег, новые щелчки и новый крик, короткий, тонущий.
Слишком много для меня. Топор вдруг стал неудержным, я опустил его и положил на пол.
Возня за окном стихла.
Еще немного, и я стану ни на что не годным. Абсолютно.