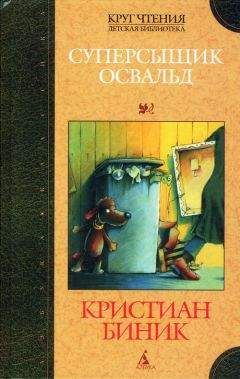Евгений Сыч - Еще раз
- Ну, предложение, конечно, заманчивое, - рассмеялась из темноты Марьюшка. - Я прямо вся даже стесняюсь как-то. Прямо даже неожиданно. И вовремя. Ты, Леха, верен себе. Опять - физики шутят?
Хотя на этот раз Мисюра и не думал шутить.
С тех пор как в голове у него поселилась птица, Леха ни на что не надеялся. Он только ждал момента, когда птица вырвется и улетит, пробив стесняющую оболочку, и даже решил в меру слабых своих возможностей птице в этом помочь. Решил? Пожалуй, утверждать так было бы преувеличением. Подобно тому как вертит бездушный маховик магнитная стрелка, птица увлекала его путем, не им избранным, но ему предназначенным, помимо воли. Авария, взрыв, все, что за этим последовало, было только этапами пути. Болезнь, больницы, консилиумы и бессмысленные медицинские процедуры тоже были этапами. Он двигался вперед. Ему становилось хуже, если он пытался свернуть, и птица металась внутри черепного пространства, как мотоциклист в полом шаре под куполом цирка: вперед. Все время вперед и по кругу.
Ему казалось - он был уверен в этом, - что внизу, под земной корой, с той же стремительностью и скоростью, как и в его голове, металась вторая птица, гораздо больше первой, но в том же направлении летящая. И Земля, как и он, стремилась выпустить наружу эту летящую боль, готовая лопнуть по шву, хоть крепка оболочка древней планеты, и - нет! - не лопалась, не выпускала. И маялась Земля, как маялся он, Мисюра. Хотя его путь был легче, ибо короток человеческий век, а жизнь - конечна. А того, иного света, что за гранью земной жизни, не должно быть. Нет. Во всяком случае, Леха надеялся, что не продлится его существование за пределами бытия. Эта надежда и безотчетный страх - вдруг все-таки есть что-то по ту сторону? друг друга уравновешивали и не позволяли своей рукой прервать течение дней, выпустить или уничтожить птицу.
Один тайный, забытый, в жизненную труху затоптанный был на нем грех: Марьюшка. И за неимением святого отца, перед которым так славно было облегчить совесть или то, что раньше именовалось душой, Мисюра притащил свое бренное тело к ее, еще более бренному. К тому, что от нее оставалось.
Ведь что в человеке удивительно? Избирательная способность. Сколько у Мисюры за два десятка лет интриг, связей, любовей было - а лишь Марьюшка осталась занозой. Почему? Может, потому что сразу понимал: она из тех, на которых женятся. А он отошел в сторону, уклонился, собой был занят. Или потому, что знал - до него у нее никого не было, и представлялось невероятное - никого не было и после.
"Мне лицо твое - как пощечина. Мне походка твоя - головная боль. Ты шагаешь прямо по мозгу моему, по складчатой его коре и не спотыкаешься на складках. Каблучки твои ввинчиваются в серое вещество, и остаются на веществе том точки, горячие точки, больные. Ты проходишь во мне. А видишь ли ты птицу? Слышишь ли, как бьется она меж двух пылающих полушарий, где проложены твои следы? Ты спишь беззвучно, как прежде. Но с середины эскалатора не попасть в начало, эскалатор движется. На нем плотно, ступенька за ступенькой, выстроились люди. И некуда прыгнуть - вбок. И все ближе к концу".
Легко в школе решать задачки по арифметике: не сошелся ответ вернись, начни сначала.
Начни с утра.
Утром Марья убежала на работу. Мисюра ушел в гостиницу. Но вечером опять пришел.
А светской беседы больше не получалось. И вспоминать ни о чем уже не хотелось.
Марья торшер зажгла, включила музыку - одну из двух кассет, которые в клубе своем подростковом у Аси Модестовны взяла как-то, к очередному занятию готовясь. Включила - и сама включилась, руки стали легкими, грудь поднялась от расширившихся, озоном наполненных легких, пятками пола не касалась - на пальчиках скользила. Голос помягчел на нижних нотах, зазвенел на верхних.
- Халтурка у меня тут была, - начала рассказывать Марьюшка Мисюре, но он, хоть слушал внимательно, не понимал, задавал лишние вопросы, не верил, что ли?
А главное - не хотел принять как обыкновенное то, что Марьюшке вполне понятным казалось и ни в каких пояснениях не нуждалось: что за девочки? Почему - молчат, и все - безымянные, и серафим крылатый, как у Феофана Грека?
- Нет, ты не понимаешь, - толковала Марья, вся в музыке, как в облаке. - Там, в выставочном зале, где я работаю, я кормлю сытых. Помнишь, как биологи у нас в универе опыты проводили? Птичку поселили в лаборатории и корма ей дали сверх меры. Так она птенчиков своих ненаглядных до смерти закармливала. Набьет их утробки детские под завязку, они клювики уже захлопывают, сытые, а мать крепким клювом своим их, мягкие, открывает. И червяка туда тычет. И я тычу - сверх меры - ненужную, зряшную пищу. Все и так все знают. Телевизоры смотрят. В кино ходят. Шкафы книгами уставлены. Пунина читали. Гершензон-Чагодаеву - насквозь. Роже Гароди - по диагонали. Только и остается помахать перед закрытыми клювиками червяком: хотите? нет?
- Ты преувеличиваешь, - не согласился Мисюра.
- А, - не приняла Марья. - Кто не интересуется, тот и не знает, да тому и ни к чему. А эти девочки... Они вдыхали то, что я хотела им дать, они словно перекачивали из меня знания, и - веришь ли? - впервые я почувствовала, что знаний мне не хватает. Искать стала информацию, поднимать старые конспекты, думать, наконец. Ожила. Человеком себя почувствовала. Ты смеешься?
- Нет, - Мисюра напряженно, как компьютер, просчитывал в уме ситуацию, и мозг его, работающий на уровне хорошо отлаженного механизма, выдавал нечто такое, о чем он не решался дать понять Марье. Как не решался рассказать ей о томящейся в его голове птице, которая опять забилась неистово. - Ладно, пойду я, Марья, - сказал он, не делая никаких попыток встать.
- Тебе плохо? - засуетилась Марьюшка, возвращаясь из пространства своей музыки в комнату к Лехе. К умирающему Лехе - теперь она отчетливо понимала это. - Может, "неотложку" вызвать?
- Не надо никого, - опустил Мисюра мокрое серое лицо на рукав. Поднял с трудом, с трудом улыбнулся: - А знаешь, я бы с твоей клубной дамой не прочь познакомиться. Может быть, это то, что мне сейчас нужно.
- Да! - обрадовалась словам его Марьюшка, хоть уже понимала, что от недуга Лехиного нет исцеления. - Ася Модестовна - она поможет. У меня простуда была жутчайшая, она травничком угостила - и как рукой... Подожди, - метнулась в прихожую, к холодильнику. - Оставалось еще. Есть! Как ты думаешь, можно тебе?
- Травничек, говоришь? - пробился сквозь боль к Марьюшке Леха. - А серой не попахивает? Не чувствуешь?
- Да что ты, Леха, малиной пахнет лесной, лимонником. Можно тебе?
- Мне уже, похоже, все можно. Хоть яду.
Где-то на узкой небесной дорожке, далеко и высоко, встретились двое, черный и белый. Хотя черный и не совсем черный, скорее, серый, да и белый не вовсе белый, всеми цветами радуги отливающий, вроде как перламутровая ракушка. Но схватил черный белого за грудь, почти белую, тряхнул - и выпало перо из многоцветного крыла и, набирая скорость, кануло в безвоздушье. В пустоте - что перо, что гайка стальная, что пуля свинцовая. Потом заскользило перо по воздушным потокам, как ртуть по дельфиньему гладкому боку. Белое перо. Почти совсем белое. Как снег. И внимательно следил за ним черный, подталкивая черным взглядом тяжелых глаз.