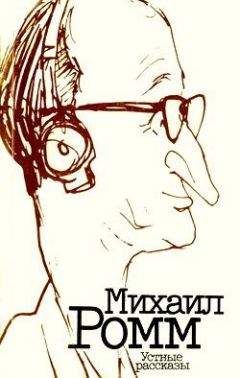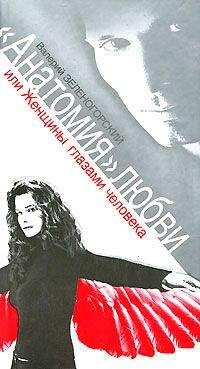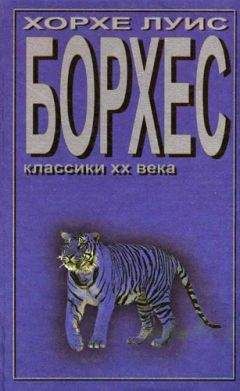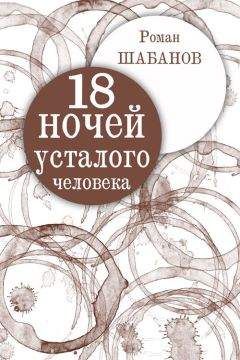Валерий Лисин - Фантастика 1991
…Греческие философы опираются на тот же факт внутренних своих переживаний, как и Сократ. Они, по Ницше, на расстоянии пяти шагов от эксцесса, анархии, разнузданности — всего того, что характерно для человека декаданса. Для них он был врачом: логика как воля к мощи и самоподчинению, к счастью. Из мудрости сделать тирана, но в таком случае и влечения должны быть тиранами.
…Итак, с одной стороны, необузданность и анархия инстинктов, с другой, — преизбыток логики и ясности разума. То и другое — отклонение от нормы, то и другое — факты одного и того же порядка.
Теперь декаданс становится всеобъемлющим, той почвой, которая взрастила новую культуру, оморализовавшую жизнь.
Итак, естественного увядания, предполагавшего преемственность, а вовсе не разрыва с греческими атональными корнями, так и не произошло. Своей формулой: разум равен добродетели, равен счастью Сократ разорвал связь времен. Было идеологически оформлено разрушение старой атональной культуры древней Эллады. Это означало, по Ницше, рождение «моралина», торжество тех самых ценностей, которые были обозначены как собственно моральная шкала ценностей. Точка зрения Сократа побеждает, декаданс утверждается и консервируется как неизбежные условия существования на века. В чем же причина этого?
В самом противопоставлении «линии Сократа» и «Иного будущего», возможно, прототипа взглядов Ницше, выразителями которого были софисты, мы видим ту же субъективистскую основу, что и в «неслучайной случайности» Сократа. Ведь Сократ, по Ницше, мог и не появиться. Если для Гегеля, пусть и на идеалистической основе, появление Сократа закономерно, то для Ницше появление Сократа случайно. Правда, это та самая «случайность», через которую судьба вершит свою фатальную предопределяемость (на чем мы остановимся в дальнейшем). Однако, появившись, подобная альтернатива с неизбежностью обеспечивала себе победу.
Реальной основой победы философии Сократа, утвердившей себя с «роковой неизбежностью», явился плебс или «толпа», — «извечная категория» на языке «радикального аристократа духа». Эта перемена вкуса в сторону диалектики является великим вопросительным законом, замечает Ницше. Нужно очутиться в затруднительном положении, нужно стоять перед необходимостью насильственно добиваться своего права, только тогда можно воспользоваться диалектикой. Ирония Сократа — «это „форма плебейской мести“». С появлением Сократа греческий вкус изменяется в благоприятную для диалектики сторону. Прежде всего «этим побеждается аристократический вкус».
Что, собственно, произошло? Сократ, «этот мещанин с головы до ног», который, по Ницше, способствовал укреплению этого вкуса, одержал в нем победу над более благородным вкусом, «вкусом благородных».
Дается в руки беспощадное оружие. Им можно тиранить. Дискредитируют тем, что побеждают. Предоставляют своей жертве доказывать, что она не идиот. Сократ открыл, что можно изловить всякого, приведя его в состояние аффекта, что аффект протекает нелогически. При этом делают людей злобными и беспощадными, а сами в это время остаются — холодной торжествующей разумностью. Обессиливая интеллект своего противника, дискредитируя его.
Не есть ли ирония Сократа проявлением бунта? Ведь по своему происхождению, — подчеркивает Ницше, — он принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Наслаждается ли он как угнетенный своей собственной жестокостью в ударах ножа силлогизма? Мстит ли он знатным, которых очаровывает?
В лице Сократа была идеологически оформлена точка зрения Плебса, или Толпы, что для Ницше однозначно. Победили инстинкты, общая энергия толпы за счет ее количественного преимущества, приоритета; выражаясь на языке философских символов, — победила «воля к власти толпы».
Иерархия аристократической Греции, ее устои рушились, что выражалось как в индивидуальном, так и в социальном декадансе, в этой «разнузданности» как личных, так и социальных инстинктов. Под «разнузданными инстинктами большинства», «толпы» Ницше подразумевает борьбу плебса за равенство. На «разнузданные же инстинкты» у меньшинства, то есть у аристократии, указывает та «анархия инстинктов», которая требовала врачевания «моралином» и означала отход от традиционных, атональных устоев греческой жизнедеятельности.
«Наивное видение в греках „прекрасные души“, золотые середины и другие совершенства, восхищения их спокойным величием, „идеальным образом мыслей“, „высокой простотой“, — писал в связи с этим философ, — от всего этого меня предостерег психолог, которого я носил в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта. Я видел, что все их учреждения вырастали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего взрывчатого вещества… „Чудовищное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины терзали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя“. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка — она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственные эллину, были нуждой… Это было следствие, не существовавшее в начале»[69].
В лице Сократа «толпа» нашла своего идеолога. «Толпа» нуждалась в Сократе, и это сделало его победу объективно неизбежной. А подоснова, подпочва этого конкретно-исторического процесса, по Ницше, извечна.
Тщательное исследование «эпохального» феномена древней Эллады, каковым явился «феномен Сократа» для истории развития европейской цивилизации, Ницше (филологом-античником) заставило его увидеть в кажущемся прежде бесконечном разнообразии исторических узоров, в кажущемся их бессмыслии скрытые сущностные пружины.
Реальной основой торжества морализма Сократа выступает энергийная мощь «количества», «стада», «толпы», то есть энергия, которая «вне морали», как таковая.
Выдающийся гуманист XX века А. Швейцер писал: «Ницше принадлежит достойное место в первом ряду моралистов человечества. Его никогда не забудут те, кто испытал всю силу воздействия его идей, когда его страстное творение, как весенний ветер, налетело с высоких гор в долины философии уходящего XIX века, ибо они останутся всегда благодарны этому мыслителю, проповедовавшему истину и веру в личность»[70].
Размышлениям философа было очень созвучно состояние русской интеллектуальной мысли накануне социально-исторического перелома, в котором отразилась смятенность души… Сопричастность своему духовному поиску и терзаниям в России Ницше чувствовал очень глубоко. «Что именно в России можно „воскреснуть“, верю вам вполне», — писал он Брандесу. Эта «близость» — прежде всего — в глубокой неудовлетворенности разумом.