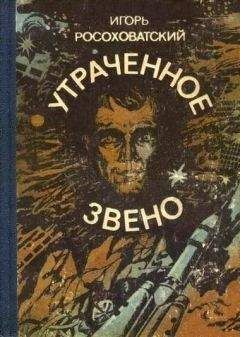Леонид Панасенко - Мастерская для Сикейроса (сборник)
— Мышка, я принимаю волевое решение. — Лахтин допил кофе, встал. — Подскажи, где твой билет на поезд?
— На телевизоре, — машинально ответила она.
— Ага, вот он, купейненький. Раз ты меня любишь, а это факт, значит, остаешься. А соблазн купейненький…
Он разорвал билет, выбросил обрывки.
— Ты согласна, Мышка? — спросил он, протягивая к ней руки. — Великолепный принцип: все, что мешает нам быть счастливыми, — в мусорное ведро!
— Гениально! — подтвердила Ляля, и губы ее задрожали. — По крайней мере, эффектно, как в кино. Ты не подумал, что я могла бы сдать билет?
— Мышка, я не узнаю тебя! — вскричал Лахтин, привлекая ее к себе. — Тратить наше драгоценное время на прозу жизни! На какие-то рубли?! Опомнись!
— Опомнилась, — чужим голосом сказала Ляля и решительно высвободилась из его объятий. — Может, и путевку заодно порвешь? Она, кстати, ровесница наших отношений — я ее четыре года дожидалась!
Пораженный ее тоном, Лахтин даже отступил на шаг, чтобы получше разглядеть маленькую женщину.
— Не может быть, — сказал он. — Ты сердишься? Из-за этой чепухи? Да я тебе десяток путевок достану. Выбирай любой курорт, вплоть до международного.
— Это не проза жизни, — зло ответила Ляля. — Это моя жизнь. Ты приходишь ко мне отдохнуть, на полный пансион. Я уже не говорю о том, что трачу на тебя душу. Но знаешь ли ты, мой романтичный и ультрасовременный любовник, что один твой визит съедает половину моей зарплаты?! Что я потом с философским видом жую в школьном буфете пирожки и запиваю их почти бесплатным молоком? Что я молода и мне хочется носить красивые платья и хоть изредка надевать свои дешевые украшения…
— Я… я не знал, — забормотал Лахтин, лихорадочно шаря по карманам. — Никогда не думал о быте, не придавал значения… Я заплачу, Ляля, я за все заплачу… Ты извини, пожалуйста. Я куплю новый билет…
— Да разве в деньгах дело? — звенящим голосом ответила она, не замечая, что по щекам побежали слезы. — Ты чудовище, Сергей! Бесчувственное чудовище, которое живет только для себя! Такие, как ты, не просто потребители. Вы активные потребители. Вы потихоньку приспосабливаете мир, переиначиваете его, чтобы вам в нем было удобно. Это особенно страшно. Ведь раньше вы приспосабливались сами, а сейчас все наоборот.
— Лихо, — криво улыбнулся Лахтин. — Ты прям-таки государственный обвинитель, Мышка.
— Перестань меня так называть! — Ляля топнула ногой. — Я не знаю, Сережа, почему ты такой. — Она всхлипнула, на ощупь, как слепая, нашарила стул. — Ты ко мне таким уже пришел… Я не знаю, например, почему гниют яблоки, но всегда отличу гнилое от нормального… Почему вы появились, откуда — не знаю. Но рядом с вами страшно. Как-то, когда ты ушел, вылакав бутылку коньяка и переспав со мной, я нафантазировала: может, вы пришельцы? Ведь вы появились так недавно — лет десять-пятнадцать назад. Вы не стали пробиваться к высшей власти. Там все на виду, сразу скажут «а король-то голый». Вы присвоили себе мелочь — распределение. Стали за прилавки, взяли ключи от подсобок, списки абитуриентов и ордера жилищных кооперативов… Вы поселились в обществе, будто вирус в организме…
— И все это я, Лахтин? — Он почти не воспринимал ее обвинения, потому что его ошеломило и напугало одно слово, которое она бросила ему в лицо еще в начале этой нелепой сцены: чудовище. Что это — совпадение, случайность? Или Ляля что-то узнала о двойнике, о его постыдной игре или душевной болезни?
— Между прочим, — сказал он, вяло подыскивая контраргументы, — мы все потребители. И нечего этого стыдиться.
Ляля удивленно взглянула на Лахтина.
— Хитрый мой доктор наук. — Она засмеялась. — Тебе просто нечем крыть. Душа для тебя давно пустой звук, абстрактная величина. А вот желание все иметь и всем попользоваться ты будешь защищать до последнего дыхания. Я тоже живу в мире вещей и потребностей. Это нормально, по-людски. Но ваши вещи и потребности — чужие. Чуждые. По существу. За них нужно продавать душу, милый. И предавать.
— Мне же больно, Ляля, — хрипло сказал Лахтин. — Опомнись. Что же ты бьешь без разбора, что ты хлещешь?! Неужто и впрямь я такое чудовище?
Она подошла к журнальному столику, возле которого сидел Лахтин, взяла из его пачки сигарету.
— Я четыре года терпела, — сказала Ляля. — Потерпи и ты, залетный мой. Скажи лучше: что тебе сегодня приснилось?
— Ну и переходики у тебя! С ума можно сойти, — Лахтин пожал плечами. — Из детства что-то, не помню…
— Значит, было царство?
— Какое еще царство?! — вскочил Лахтин. Он наконец, достал портмоне, приоткрыл его, закрыл, снова открыл.
«Не знает, как поступить, — брезгливо подумала Ляля. — Боится, что швырну его сребреники ему в лицо. Если все доставать, то и отдавать все надо. Отсчитывать неудобно. А все отдавать не хочется».
— Ты не жмись, — грубо сказала она. — Я за четыре года много заработала. Так и быть — облегчу тебе душу. Ты же половину грехов сразу спишешь. Откупился, мол… А про царство упоминала, так это опять-таки о душе. Было же у тебя хоть что-нибудь там раньше.
— Не твое дело! — окрысился Лахтин. Он отсчитал несколько купюр и демонстративно швырнул их на диван. — Было и есть.
— Было, конечно, — согласилась Ляля. — Маленькое, захудалое. Но ты и его отдал. За коня! За то, чтобы быть на коне. Все царство души — за паршивую клячу удачи… Говоришь — есть? Ой ли.
— Плевал я на твое царство! — фальцетом выкрикнул он и, натыкаясь на вещи, пошел в коридор. Хлопнула дверь.
Маленькая женщина опустила руки и посмотрела на пол так, будто несла-несла гору посуды и вдруг все разом уронила.
Заплакать или рассмеяться?
Она все-таки заплакала. Разбитого не жаль. А вот украденного жаль всегда.
Сушь, которая две недели подряд стояла над Гончаровкой, в этот вечер как-то притомилась. Дождя ничто не предвещало, но давление стремительно падало, и люди, устав раньше обычного, раньше и ко сну собрались.
К полуночи чистые звезды подернулись дымкой, но в селе все еще стояла настороженная, болезненная тишина. Не шелохнется пыльная листва, не прогремит ведро о сруб колодца, не коснется ласково слуха девичий смех.
Часом позже с юго-запада, где уже несколько раз сверкали сухие зарницы, на Гончаровку стремительно надвинулся широкий грозовой фронт. Звезды погасли, будто их задул промчавшийся над селом ветер. Обрадованно прошумела листва. В ответ небо грозно заворчало и воткнуло в каменный лоб ближайшего холма молнию. Хлынул дождь.
Захар лег рано, но уснуть долго не мог. Ломило в висках, перед глазами мельтешили белые мухи. Он ворочался, представляя, как его письмо едет где-то в почтовом вагоне, пытался мысленно заглянуть в квартиру Сергея, но почему-то, кроме зеркал и ковров, ничего не мог представить. В богатых домах, говорят, всегда много ковров. Наверное, есть еще книги. Ведь Сережа — его Сережа! — как-никак ученый. Почти что профессор. Вспоминал Захар также жену сына, а особенно внучку, но и из этого ничего не получилось. Видел-то он их всего раз, лет шесть назад, да и то мельком. Не пойдешь же сдуру в хату, когда там гости… Если бы он знал, что не чужие они ему. Если бы знал!