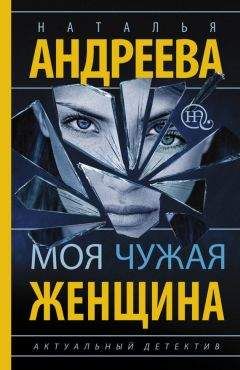Наталья Колесова - Мой город
— Кроме нас, — мягко возразил Шельга.
— Ну, мы-то… одной веревочкой повязаны.
— На всю оставшуюся жизнь.
Быков глянул исподлобья.
— Никогда не говори за всю жизнь, Николай.
— Я не суеверен.
— Зато очень самоуверен.
Шельга аккуратно поставил стакан.
— Я уверен в себе, а это разные вещи.
— Даже уверенность в себе не всегда приносит свои плоды.
— Возможно. Но я попробую.
— Да хватит вам! Пошлите лучше погуляем, дождь кончился.
— Нет уж, — сказал Быков, — Хватит, нагулялся. Переполнился впечатлениями. Вон Шельге нужны оперданные, пусть он и гуляет.
— Во! — сказала я. — И я с ним. Да, Шельга?
Шельга внимательно поглядел на демонстративно улегшегося на кровать Быкова. Кивнул.
— Только переоденьтесь.
Шельга поводил головой, разглядывая трухлявые, словно изъеденные какими-то жуками-камнеедами вчера еще целые-здоровые дома. По обочинам перли рыжие травы, черные трещины бежали по асфальту — то здесь, то там — и асфальт скрипел под ногами, как песок.
— Во дает, да?
Шельга посмотрел странно:
— Вас это радует?
— Интересно же!
Шельга запнулся. Сказал устало:
— Интересно. Очень. А что со всем это делать, Дина?
— Не знаю… — пожала я плечами. — Изучать, наверное.
К цехам было не добраться. Цеха словно плавали в красном море — волны песка накатывались на здания, на трубы, на все эти заводские штуковины… Шельга попытался было ступить на одну из волн, но нога его так быстро стала проваливаться, что он решил воспользоваться палкой. Взял какую-то железяку и стал ее втыкать. Прут все погружался, погружался, погружался… Шельга присел на корточки, внимательно уставившись на то место, где только что скрылся конец штыря. На лице его было такое отчаянье…
— Я сойду с ума, — тихо сказал он.
Мы попытались проникнуть дальше не территорию завода. Не удалось. Один из складов нам устроил веселый камнепад. Вернее, кирпичепад. Мне здорово съездило по плечу, да и Шельга вроде бы дернулся.
Мы последний раз оглянулись.
— Страшно? — спросила я.
— Да, — сказал Шельга просто. — Вы еще совсем юная (спасибо, не сказал — девчонка), и не понимаете, насколько это серьезно. Гораздо серьезнее, чем… те.
— Слушайте, а ведь скоро им, наверное, нечего будет взрывать! Песок все и так сожрет.
Шельга беспомощно улыбнулся и сказал:
— Вы знаете, я что-то устал. Если есть бинт, перевяжите, пожалуйста.
Я посмотрела не его склоненный борцовский затылок — по нему медленной густой струйкой текла кровь. Шельга искоса взглянул на меня и поспешно сказал:
— Ничего страшного, просто кожу содрало.
Я изрядно повозилась, прежде чем соорудила на его голове подобие чепчика. Шельга потрогал на затылке бинт и уткнулся лицом в колени. На пыльной шее засыхала бордовая полоса. Я достала платок, начала осторожно вытирать. Шельга неожиданно повернул голову, взял мою руку — я только таращилась в изумлении — и потянул к себе. Прикоснулся губами к лицу, глазам…
Я, очухавшись, рванулась — его руки тут же разжались.
— Простите, — сказал Шельга медленно. — Я обидел вас?
Ни капельки. Очень даже вежливо. Только это было так неожиданно…
— Пойдемте, а? — сказала я.
— …Не трогай ее! — Шельга рванулся, но парни перехватили его сильнее, навалились с обеих сторон на плечи, а он все рвался вперед, страшно оскалив от боли напряжения белые зубы, мотал головой и хрипел. — Не трогай!
Рыжий вдруг отпустил меня, наклонился над скорченным Шельгой — тот глядел на него снизу, тяжело дыша — и очень просто, буднично сказал:
— Ладно. Но только ты попроси хорошенько, понял, попроси, и мы ее отпустим. И тебя отпустим. Вставай на колени. Ну, давай!
Парни надавили сильнее, но Шельга, побагровев, уперся прочно расставленными ногами, и Рыжий скомандовал:
— Стой, парни! Он сам. Отпустите его.
Шельга медленно разгибался, качнулся назад, вперед, установился и немигающим взглядом уставился на Рыжего. У того задергалось веко.
— Ну? — тихо сказал он.
И пришла тишина. Все смотрели на Шельгу. А он смотрел поверх наших голов. Потом разжал губы и обронил негромкое:
— Подонки.
— Да? — ласково спросил Рыжий. — Тогда представление начинается. Ну-ка, иди сюда!
Сжав зубы, чтобы не заорать от боли, я пыталась вырваться. Не было уже сил. Сейчас я вцеплюсь зубами в эту гладкую глотку…
И увидела, как Шельга медленно опускается на колени.
Он встал на колени и один из отморозков подошел и ткнул его ботинком в лицо — несильно, словно проверяя, жив ли еще раненный зверь. Голова Шельги мотнулась назад, но он не упал, а только осел на пятки, упорно глядя в асфальт. А я смотрела на него, и мне было глубоко плевать на то, что говорили и как смеялись подонки…
Шельга медленно шел впереди. Широкая его спина была точно сломанная. Я смотрела, как он переставляет ноги и никак не могла заставить себя его догнать.
Он остановился у перекрестка, не оборачиваясь, ждал меня. Я обошла Шельгу, заглянула в ускользающие глаза.
— Идемте, — сказал он хрипло, — только идите рядом…
— Шельга, — сказала я, — Шельга…
— Слушайте, Дина, — неохотно сказал он, — не считайте себя чем-нибудь обязанной. Все можно было сделать совсем не так и…
Я не слушала его. Я гладила его по чисто выбритой щеке — чистюля, аккуратист Шельга. Милый, несчастный Шельга.
— Простите меня, Шельга, родненький! Я дура! Я проклятая, истеричная дура! Простите меня!
И ткнулась лбом, губами в шею Шельги. Он молча, очень бережно подержал меня за плечи, потом отстранился.
— Идемте, Дина.
Я проснулась от собственного крика. Села на кровати, задыхаясь от рыданий. Простыня вымокла от пота, сердце колотится… Откуда- о из темноты пришел Быков, уложил меня обратно, укрыл, и я мгновенно уснула. И снова обнаружила себя сидящей на кровати, вцепившейся в холодные железные прутья. Заскрипели пружины, взлохмаченный заспанный Быков со вздохом сел со мной рядом, обнимая здоровой рукой. За окном светился город. Я опустила глаза. Светилась рука Быкова. Голубым сияли лунки ногтей, белым — все морщинки, линии на твердой ладони…
— Быков?.. — шепотом спросила я.
— Ну видишь, светится… — рассеянно сказал он, глядя в окно.
— Давно?
— Как ранили. Три дня. Ночи.
Я осторожно повернула его тяжелую руку. Провела пальцем по ладони.
— Слушай, тебя можно теперь за деньги показывать! Быков — Светящаяся Рука!
— Спать ложись, юмористка. Все никак не угомонишься.