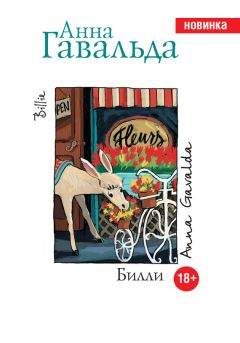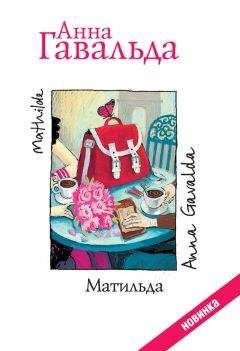Анна Гавальда - Просто люди: Билли. Ян. Матильда
Короче, все было в порядке, и мы это знали.
Знали, что именно осторожность, а вовсе не презрение и не безразличие тому виной, и пусть даже нам нельзя подавать виду, но мы по-прежнему оставались друзьями.
Он это знал, ведь стоило мне почувствовать, что он скорее печален, нежели одинок, или же подавлен более, чем мечтателен, я подходила к нему и говорила: «Выше голову, Пердикан!» – а я, я это знала потому, что даже если порой ему и хотелось полюбопытствовать, он все же ни разу не предложил проводить меня до дома. К тому же он никогда не задавал мне слишком прямых вопросов. Он был вежлив, сдержан, почтителен. Как сказал бы его отец, он наверняка подозревал, что Сморчки – не колыбель христианства…
Полчаса совместного пути по средам позволяли нам продержаться неделю. Мы ни о чем особенно не говорили, просто были вместе и шагали к дому наших прекрасных воспоминаний.
И это было здорово.
Это нам помогало.
* * *К середине июня я запаниковала: меня не перевели в девятый класс, даже в профессионально-технический, а он уезжал учиться в один из лучших лицеев страны.
В общем-то, эти тучи уже давно с угрожающим видом сгущались над моей головой, но до сих пор мне удавалось от них отворачиваться, тогда как теперь – дождалась, приехали: черным по белому. На моем табеле: «Не допущена», а у него в письме, которое он радостно мне показал: «Зарезервировано место в пансионе».
Вот ведь как. Словно удар в живот.
Помню, в тот день я попросила у Клодин разрешения остаться обедать с ними, и это было полным идиотством с моей стороны, потому что за весь обед я так и не смогла ничего проглотить.
Честно призналась, что у меня болит живот, и Клодин отнеслась с пониманием, потому что ведь это нормально, когда у девушки моего возраста болит живот, но она, естественно, заблуждалась… У меня живот болел совсем в другом месте…
* * *К счастью, с концом того учебного года связано еще одно приятное воспоминание: наша поездка с классом в Париж…
Это была последняя неделя перед годовыми контрольными на аттестат, и нас вместе с параллельным классом, то есть всех придурков разом, потащили в Лувр. Все эти дебилы только и делали, что фоткались да разглядывали свои дебильные фотки, в то время как можно было запастись куда более прекрасными впечатлениями…
Мы с Франком сели в автобусе рядом, потому что только мы с ним остались в гордом одиночестве.
Когда мы тронулись в путь, Франк протянул мне один из своих наушников. Специально для поездки он записал подборку, и я наконец смогла послушать пресловутую Билли Холидей… У нее оказался такой чистый голос, что мне впервые удалось разобрать некоторые слова в песнях на английском… Don’t Explain…[32] Красивая песня, правда? Очень грустная, но очень красивая… Мы послушали несколько ее песен подряд, потом была «гигиеническая» остановка, он забрал свой наушник, и мы пошли размяться, каждый в свою сторону.
Когда мы вернулись в автобус, он мне столько всего понаболтал про певицу, которую мы с ним только что слушали. Рассказывал небрежно, типа, всякие сплетни из какого-нибудь журнала Oops той эпохи, ну и я, конечно, так же небрежно ему внимала. Да что ты? Да ладно? Да неужели? Но, конечно же, и я, и он в который уж раз прекрасно осознавали, чтó между нами в тот момент происходило на самом деле. Вернее, что происходило с нами.
Все это напоминало мое дебильное объяснение по поводу того, кто из нас должен играть Камиллу, – мы использовали не те слова, и все-таки, в общем, они неплохо справлялись с отведенной им функцией слов…
И что же такого он мне рассказал об этом прекрасном голосе одной из известнейших вокалисток мира, которая покорила сердца миллионов с тех пор, как появился джаз, и которую даже пятьдесят лет спустя после ее смерти все еще слушали двое деревенских подростков, плотно прижавшись друг к дружке на заднем сиденье автобуса?
Уф…
Ничего особенного…
Что ее мать выгнали из дома в тринадцать лет, потому что она была беременна, что у нее самой было жуткое детство, что она онемела и долго молчала после того, как у нее на руках умерла ее любимая бабушка, что в десять лет ее изнасиловал однажды ночью какой-то милый сосед, что потом она попала типа в какую-то приемную семью, где над ней издевались и били ее, что в итоге она вместе с матерью-алкоголичкой оказалась в борделе и что там ей тоже неслабо досталось, но в конце концов… поди пойми… все-таки это было круто…
Что всей своей жизнью она не только обессмертила свое имя, но и в конечном счете показала «фак» небесам.
Don’t explain, ага?
Здорово было и то, что следом в его подборке шли I Will Survive[33], Brothers in Arms[34] и Billie Jean – специально для бойца Биби, и на этом мы мягко с ней распрощались.
Слышишь, звездочка моя? Понимаешь, что это за человек – мой друг? Хорошо ли тебе оттуда видно моего маленького принца, или тебе нужен бинокль?
И если ты видишь все не хуже, чем я рассказываю, то есть он для тебя как на ладони, и ты позволяешь ему бессмысленно страдать, то тебе придется уделить мне время и объясниться, потому что, знаешь ли, мне за мою жизнь столько всего пришлось вынести – мало не покажется, но я уже и сейчас чувствую, что такого удара не выдержу, просто перестану отражать солнечный свет…
* * *Я в ту пору была еще сильно отсталой, а вот для Франка эта поездка в Париж стала настоящим шоком.
Не просто шоком. Главным потрясением в его жизни.
Он уже несколько раз ездил в Париж на разные представления, по бесплатным профкомовским билетам с работы его матери, но это всегда происходило на Рождество, то есть ночью, в спешке, к тому же в сопровождении его папаши, который показывал детям здания и разъяснял, при помощи каких махинаций тот или иной еврей на этом нажился (он у него чокнутый на всю голову), поэтому с городом у Франка были связаны не самые приятные воспоминания…
А тут, прекрасным июньским днем, да еще и вместе со своей малышкой Билли, которая считала, что франкмасоны – это честные португальцы[35], и показывала пальцем на все подряд, привлекая его внимание к массе прекрасных деталей, которые ей хотелось запомнить, – от всего этого у него окончательно сорвало крышу.
На обратном пути Франка как будто подменили. Когда мы повернули в сторону дома, назад к нашей унылой жизни провинциальных подростков, он больше не разговаривал, отдал мне оба наушника и все оставшиеся у него конфеты и всю дорогу с мечтательным видом вглядывался в ночь за окном…
Он влюбился.
Луврский дворец, Пирамида, площадь Согласия, Елисейские Поля – я смотрела, как он восхищается, и думала, что он чем-то похож на Венди, когда она со своими братьями летала над Лондоном за компанию с Питером Пэном. У него аж глаза разбегались, настолько все это его впечатляло.
Мне кажется, в самое сердце его поразили даже не памятники архитектуры, а просто люди… Все эти люди, то, как они одевались, как безалаберно переходили через дорогу, танцующей походкой пробираясь между машин, как громко они разговаривали и смеялись между собой, как быстро двигались…
Улыбающиеся люди на террасах кафе, шикарно одетые или в деловых костюмах, что перекусывали на скамейках в саду Тюильри или загорали на берегу Сены, подложив под головы свои портфели, читали газеты, стоя в автобусе и ни за что не держась, шагали мимо клеток по этой – как ее там? – набережной, даже не замечая попугайчиков внутри, потому что их собственная жизнь казалась им куда интереснее всех этих попугайчиков, они куда-то катили по самому солнцепеку, крутили педали, болтая по телефону, смеясь и раздражаясь, иные входили в крутые бутики, иные выходили оттуда с пустыми руками, как будто так и положено. Как будто продавщицам платят за то, чтобы они, сжав зубы, им улыбались.
О-ля-ля, да уж… Все это тогда страшно растрогало моего Франки: именно парижане весной[36] стали для него настоящим потрясением, его личной «Джокондой»…
В какой-то момент, когда мы стояли на мосту, на ажурном железном мостике над Сеной[37], а вокруг нас, со всех сторон, куда ни посмотри, виды были такие, что закачаешься: Нотр-Дам, та самая, когда-то не к месту мною помянутая Французская академия, Эйфелева башня, прекрасные здания на набережных, музей уж и не помню чего, и все прочее, да, ну так вот, пока мы крутили с ним головами, глазея по сторонам, а прочие дикари фоткали крупные планы замкóв, которыми влюбленные туристы увешали балюстрады, мне тогда захотелось ему поклясться…
Мне захотелось взять его за руку или за локоть, пока он смотрел на все эти красоты, пуская слюни, как тощий несчастный пес перед огромной и сочной костью, до которой ему не добраться, и тихонько сказать ему:
– Мы вернемся… Обещаю тебе, что вернемся… Выше голову, Франк! Обещаю тебе, что однажды вернемся… И уже навсегда… И мы тоже будем здесь жить… Обещаю, однажды утром ты будешь шагать по этому вот мосту, как ходишь сейчас к Фожере (так звали нашего булочника), и тоже будешь настолько занят своим супертонким телефоном, что даже перестанешь все это замечать… Нет, ну конечно, не совсем перестанешь, но уже не будешь, как сегодня, слюни пускать, потому что наешься досыта… Давай, Франк! Что это за человек, который ни во что не верит? И раз уж это я тебе говорю… а я… я стольким тебе обязана… Ты смело можешь мне поверить, ведь так?